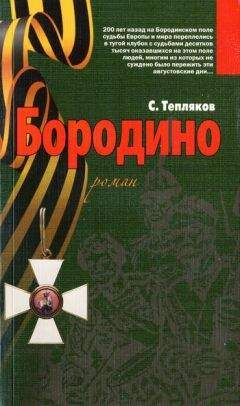Ознакомительная версия.
Позже, добравшись до избы и сделав всё, что могло оттянуть написание прошения, Барклай всё же заставил себя сесть за стол и написать самое проклятое письмо в своей жизни. Он писал его сам, хотя правая рука, изувеченная в 1807 году в сражении при Прейсиш-Эйлау, с тех пор плохо слушалась, буквы приходилось писать больше обычных, но и тогда их было трудно разобрать. Однако не хватало духу диктовать это адъютанту и знать, что весть разлетится по лагерю тотчас после того, как адъютант выйдет из избы. Переходить в Швецию по льду Ботнического залива в 1809 году – хватало, а диктовать – нет.
«Я Вам предсказывал, Государь, что клевета и интриги успеют лишить меня доверия моего Монарха. Я ожидал этого, потому что такой результат совершенно естественно вытекает из порядка вещей. Но мне трудно было представить себе, что я кончу тем, что навлеку на себя даже немилость и пренебрежение, с которыми со мной обращаются»…
Тут он вспомнил о корпусе Тучкова и поморщился. В груди стало больно.
«Совесть моя говорит мне, что я не заслуживаю этого. Рескрипт, который Вашему Величеству угодно было дать мне от 8 августа, рескрипт князю Кутузову и обращение здесь со мною служат очевидными тому доказательствами. В первом из этих рескриптов я настолько несчастлив, что причислен к презренным и продажным людям, которых можно побудить к исполнению их обязанностей лишь призрачной надеждой наград. Во втором же рескрипте операции армии подвергнуты порицанию. Последствия событий покажут, заслуживают ли они осуждения; поэтому я не хочу оправдывать перед Вами, Государь, эти операции».
Он выводил большие буквы в обращении к царю особо тщательно. Он бы писал большими все буквы в словах «государь», «император», в обращениях «вам». Император был для него, потерявшего мать в десять лет, а отца в двадцать, всем. От мысли, что император думает о нём плохо, у него болело сердце.
До сих пор самым светлым воспоминанием была его встреча с царём в марте 1807 года в Мемеле, где Барклай тогда лечил свою руку. Сорок осколков вынули из неё. Но превозмогая боль, Барклай составлял план о действиях русских войск на случай вторжения Наполеона в Россию. Об этом-то плане узнал государь, потому-то и решил встретиться с генералом. Уже тогда главной мыслью было отступлением заставить Наполеона оторваться от баз, растянуть коммуникации – и именно за эту идею царь наградил его и возвысил.
Потом Россия стягивала свои войска, выводя полки из Сибири, формируя новые части, оставляя на службе ополченцев 1807 года, для того, чтобы упредить Наполеона. Четыре армии (кроме 1-й и 2-й Западных, была 3-я Западная армия Тормасова и Дунайская армия Чичагова), были подготовлены к походу против Наполеона. Разыгрывались разные планы – что будет, если начнём мы? что будет, если начнёт он? Но хоть с января 1812 года Барклай стал военным министром, а радости не было в нём – слишком далеко оттеснён он был от своей же идеи, слишком многое поправили в ней нынешние советчики царя, планы которых всем были хороши, и имели только один недостаток: как и при Аустерлице, создатели их считали себя умнее Наполеона. Поэтому, когда он и правда начал, оказалось, что ни один план не годен.
Вернее так: отступление тоже был план, и он сработал. Царь ещё до войны говорил, что, если надо, он отступит до Сибири (в 1812 году он эти слова только повторил). Но когда пришлось отступать на деле, это оказалось не так легко – не принимала этого русская душа. Оказалось, точка надлома у русского народа гораздо ближе Сибири. Уже приход французов в Смоленск был для русских чем-то небывалым.
«Будто не были в Смоленске вот хотя бы поляки… – подумал Барклай, глядя на свечу и не видя её. – Да поляки были и в Москве». Уезжая от армии в июле, государь сказал Барклаю: «Поручаю вам свою армию, не забудьте, что у меня второй нет». Барклай не забывал – вот она, армия, он не дал её разгромить и этим спас Россию. Барклай так и думал – «спас, именно спас, этого вы у меня не отнимете» – будто спорил с кем-то. «Впрочем, отнимут, всё отнимут…» – подумал он, мотнул головой и продолжил писать.
«Здесь обращаются со мной так, будто мой приговор подписан. Не ожидая моего согласия, отбирают чиновников, мне подчинённых. Меня поставили в рамки, в которых я не могу быть ни полезным, ни деятельным».
Барклай остановился – по столу полз таракан. Генерал вдруг подумал, что вот ведь и это – Божья тварь, и выходит они с тараканом равны? Да ещё и не счастливее ли его, генерала, человека, этот таракан – ведь наверняка никаких интриг нету в этом тараканьем мире. «Или есть?..» – усмехнулся Барклай. Таракан подполз к свече и шевелил усами, повернувшись так, будто смотрел на Барклая. Он усмехнулся ещё раз и смахнул таракана со стола пером.
«Теперь я раскрыл сеть самой черной интриги, посредством которой осмелились довести до сведения Вашего Императорского Величества тревожнейшие известия о состоянии армии; я знаю, Государь, что Вас продолжают ещё поддерживать в том мнении, чтобы в случае счастливого успеха придать более цены собственной заслуге; знаю, что каждому из моих действий, каждому моему шагу были даны неблагоприятные истолкования и что их довели до сведения Вашего Императорского Величества особыми путями. Но в моём настоящем положении, особенно видя к себе пренебрежение, я чувствую себя слишком слабым, чтобы переносить внутреннюю скорбь, которая приводит меня в отчаяние. Мой ум и мой дух опечалены, и я становлюсь ни к чему не способным».
Он перевёл дыхание. С каждой строчкой этого письма прожитая жизнь его теряла смысл. Она была прожита для славы – а теперь славы не было. Для положения в обществе – но не осталось и этого. Для истории – но ведь и из истории вымарают, или впишут в неё так, что лучше бы вымарали.
Барклай поморщился и начал писать последние, самые тяжёлые строки.
«Осмеливаюсь поэтому покорнейше просить Ваше Императорское Величество освободить меня из несчастного положения и совершенно уволить от службы. Осмеливаюсь обратиться к Вам с этими строками, Государь, тем с большей смелостью, что мы находимся накануне кровавой и решительной битвы, в которой, может быть, исполнятся все мои желания».
Снова вылез на стол таракан. Барклай вдруг затаил дыхание и медленно-медленно начал тянуть к рыжей твари руку. Таракан шевелил усами, но не убегал. Сложенные клещами пальцы генерала нависли над шевелящимися усиками, помедлили… и вдруг схватили! Таракан затрепетал. Барклай поднес его ближе к лицу, не чувствуя отвращения – несметные полчища тараканов были обычны в крестьянских избах. Барклай и сам не понимал, зачем это сделал – зачем ему таракан? Но он смотрел на извивающуюся рыжую тварь, а потом поднёс его к пламени свечи и со странной улыбкой наблюдал, как таракан, облизываемый огнём, корчится, как сгорают его крошечные лапки, как скукоживается панцирь. Вдруг огонь обжёг Барклаю пальцы.
«Что со мной? – подумал он, отдёргивая руку. – Я схожу с ума. Ничего, до завтра не сойду. А завтра, самое большее, послезавтра, Бог даст, всё кончится».
Он вписал в письмо ещё несколько строк – обязательных строк о почтении и любви к императору – и, пока чернила сохли, крикнул дежурного офицера.
– Кто курьером?
– Корнет Инзаров! – отвечал дежуривший майор Вольдемар Левенштерн.
– Пусть не медля явится ко мне за пакетом в Петербург… – сказал Барклай. – И сей же час отбывает.
Левенштерн странно смотрел на Барклая, и Барклай подумал: «Знает. Все знают». Он отвернулся и посмотрел на чёрную от копоти икону, оставшуюся от хозяев.
«Господи, дай мне сил… – подумал Барклай. – Господи, дай мне сил».
После того, как русские отступили от Шевардинского редута, вместе с войсками туда приехал Наполеон. Лошади шагом пробирались в темноте между мёртвых и раненых.
– Что вы думаете об этом бое, Ней? – спросил Наполеон.
– Полагаю, что мы атаковали основную позицию русских и завтра они попробуют её вернуть… – отвечал Мишель Ней, высокий, рыжий и кудрявый. Наполеон довольно кивнул.
– Либо уйдут ночью с поля дальше на восток… – вставил маршал Даву, лысый и большеголовый. Наполеон сердито оглянулся на него, но промолчал. Даву был способнейшим из всех: в октябре 1806 года он при Ауэрштедте разгромил всю прусскую армию, втрое превышавшую его корпус числом. Одновременно под Йеной пруссаков атаковал и Наполеон, и только после победы выяснилось, что император разгромил вдвое слабейший корпус принца Гогенлоэ. Тогда, в 1806-м году, Наполеон добродушно отнёсся к отнятым у него лаврам – Даву получил титул герцога Ауэрштедского. Однако с тех пор старался держать маршала в узде. (Привычка эта сыграла с Наполеоном злую шутку – в 1815 году, отправляясь навстречу Блюхеру и Веллингтону, он оставил Даву командовать гарнизоном Парижа, а ведь на поле Ватерлоо он нуждался в талантах Даву сильнее чем когда-либо).
Ознакомительная версия.