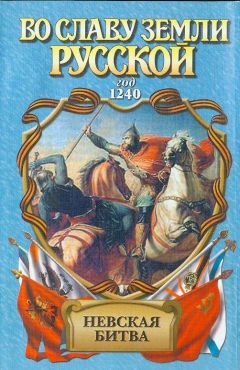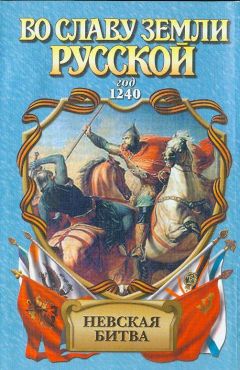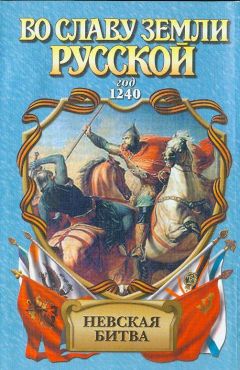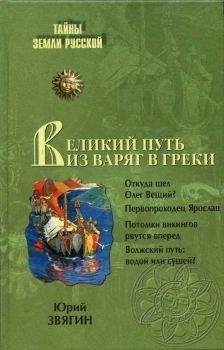Но смотрели его глаза, узнавали и не хотели узнавать нового облика страны своей. Не было уже и десятой части цветущих некогда деревень и сел: ни Ален-кина, ни Лебядина, ни Троицкого, ни Красного, ни Де-брина, ни Соколова, ни многих других, где он мог бы зайти в дом и где его бы, глядишь, признали и сказали: «Здрав буди, Алешенька!» Только в Грачах теплилось жилье и стояла Ярославова застава. Тут его накормили горячими постными блинами и поведали о гибели и разорении той обители, из которой отправился он по белу свету два года назад. Узнал он и о том, как братия монастырская молила проклятых убийц пощадить старца Иадора и как татарва согласилась не умертвлять старца, но всех остальных, играючись, посекла своими мечами и топорами.
Нагоревавшись о милой монастырской братии, Алексий вытер слезы и спросил о свадьбе Ярославича. Оказалось, и впрямь Александр наметил жениться сразу после Пасхи и свадебную кашу творить в Торопце.
— Отчего же в Торопце?
— Для того чтобы литве казать, что у нее под носом свадебствуем и веселимся, хотя и разорил нас проклятый тугарин. Литва нынче сильно распоясалась, видя наши бедствия. Да что, одна ли литва, что ли! И немец свейский, и немец ливонский, и всякий какой ни на есть немец неумытый полагать взялся, что теперь, опосля Батыя, нас голыми руками взять возможно. Ярослав, батюшка наш любимый, уже под Смоленском литве по роже-то надавал. Та литва безобразная, как Батый разорил нас, так пошла брать смоленские земельки, пожирая их, яко волча безглядное овчее стадо. Но Ярослав Всеволодич им уже утер нос, а погляди, то ль еще будет!
— Кого же себе в жены берет Александр? — спросил Алексий.
— Понятное дело — Александру, — был ответ.
— Да чью дщерь-то?
— Понятно чью — Брячиславну.
— Се коего Брячислава? Не князя ли Полоцкого?
— Сведомо, его самого.
— Ну тогда и понятно, отчего в Торопце кашу варят, — догадался борисоглебский инок. — Ведь Торопец как раз лежит там, где сходятся границы трех земель — Полоцкой, Смоленской и Новгородской, и полоцкие князья с новгородцами и смоляками искони за него спорили. А теперь этой свадебной кашей торопецкую трещину-то и замажут. И хорошо! Вот хорошо-то! И Брячислав — князь, слыхано, богатый, у него и Полоцк, и Витебск, и Городок, и многие иные селения небедные. Что ж… Не мешает мне поспешить побывать на той торопецкой каше, порадовать Александра. У меня для него весть благая…
Так говорил инок Алексий, торопясь покинуть заставу в Грачах. От заставы он пришел в Переяславль и побывал на пепелище Борисоглебского монастыря. Среди обугленных стен торчали могильные кресты. Здесь же и похоронили всю братию, побитую монголами. Только старец Иадор лежал поодаль, возле маленькой кельи, в которой он спасался после нашествия, единственный выживший из всего населения обители, воевода без войска, отец семейства без семьи, вождь без племени. Тут-то и вспомнился Алексию его сон в Мисюрь-стране. Про Бориса и Глеба, плывущих в ладье по Клещину озеру с братией Борисоглебской
обители. Ведь сие же как раз тогда было, год назад, когда и Батый на Переяславль нахлынул! И вот почему он в ладье старца Иадора не видел — старец еще жив был. Стало быть, Борис да Глеб и впрямь забрали их к себе в небесную ладью, плывущую по небесному Клещину озеру. Теперь и Иадор там же.
Покидая печальную скудельницу, бывшую столь долго его земным пристанищем, Алексий так и светился последней утешительной мыслью: он станет возрож-дателем монастыря! Он отнесет благую весть к Александру, попирует на свадебной каше в Торопце, а потом возвратится сюда и начнет отстраиваться. Поселится в опустевшей келье Иадора, никуда из нее не уйдет, даже когда монастырь возродится и расцветать станет.
Эта мысль так вдохновила его, что, покинув родной Переяславль, Алексий почти бежал в Торопец, ноги его так и пели, привыкшие к быстрой и долгой ходьбе. Его раздирало страстное желание поспеть в Торопец даже не к свадьбе Александра, а к празднику Благовещения, ведь он же нес благую весть будущему спасателю и блюстителю Руси, благую весть, благую весть…
И уже терзался Алексий от ужаса, что никак, никак не поспевает он до Благовещения в Торопец. В Лазареву субботу он добрался только до Твери. Город копошился, как муравейник, стараясь успеть подвоскре-сить свой дивный облик к Пасхе Христовой. В отличие от спаленной Рязани, Тверь оживала, вставала из обугленного гроба. Здесь Алексий исповедался и отстоял службу кануна Входа Господня в Иерусалим. Он рассказывал о своем путешествии в Святый Град, и его рассказы, имеющие особый смысл в такой именно праздник, собрали многих слушателей.
На другое утро Алексий пустился дальше, но к вечеру дошел лишь до Лихославля. В Торжок он явился в Великий понедельник, и теперь становилось очевидным, что за остаток дней ему едва ли поспеть в Торопец. В этом году Благовещение выпадало на Страстную пятницу, оставалось идти вторник, среду, четверг. О, если бы хоть кто-нибудь подвез его! Но по дорогам мчались всадники, не отягощенные повозками, проскакивали мимо и даже не останавливались, чтобы подбодрить монаха.
Вечером в среду Алексий вышел к дивным красотам Селигерского озера; неожиданно ударил мороз, и все, что было влажным, застыло в причудливых очертаниях. Внезапным морозцем подернуло и сердце инока. Он вдруг подумал о том, как ему выразить благую весть Александру. Ведь он только знал некий незримый, сокрытый, таинственный смысл ее, не задумываясь о словесной передаче глубинных образов. Что же он скажет Александру? Как выразит суть? А главное — как передаст Ярославичу тот неугасимый, но уже незримый Святой Огонь Господень, несомый им от Живоносного Камня? Ведь по словам Иадора, явленного в сновидении, пламя перешло от разбитой лампады прямо в душу Алексия. И как же он вручит это пламя княжичу?..
В вечер под Благовещение он все еще находился на расстоянии полутора дней пути. В ужасе Алексий чувствовал, что все рассыпается, как порванные бусы. Он не успевает к празднику в Торопец, не знает, что сказать и как передать пламя. Он молился Борису и Глебу, да пошлют они ему помощника, молил Иадора явиться ему на мгновение и объяснить то, что теперь стало таким необъяснимым… И когда в сумерках он увидел всадника, скачущего по дороге, то понял, что мольбы его услышаны, что теперь все разрешится и именно этот всадник поможет ему добраться до То-ропца к Благовещению.
Глава вторая
Под утро, когда еще совсем темно было, Александр проснулся от четкого ощущения, что кто-то пробрался в его почивальню и дышит громко и тяжко.
— Савка! Ты, что ль, тут? Чего тебе, дурень? — очень недовольным голосом пробормотал Ярославич, полагая, что это его слуга-отрок11 удумал какое-то очередное озорство учудить ради праздничка. Только разве можно озорничать — ведь хоть и праздник нынче,
а Великий пост-то еще не кончился.
Он привстал в постели и не сразу понял, что именно не так в его клети, а когда понял, слегка смутился. В почивальне стоял странный серебристый свет, тихий-тихий, едва заметный глазу. Такого он еще никогда не видывал. Лампада в красном углу чуть теплилась, и от нее такого света быть не могло. Вдруг все в княжиче вздрогнуло… — в углу стоял человек…
— Не бойся меня, князь светлый! — в сей же миг раздался голос, глухой и ласковый.
— Кто ты? — все еще испуганно спросил Александр.
— Я — инок… Однажды на горе над Клещиным озером ты подходил под мое благословение. Должно быть, не помнишь…
— Сдается, помню… — пробормотал Ярославич.
— Ничего более не говори, княже, а только внимай мне, — уже строго молвил нечаянный гость, вытянув вперед левую руку. — Благую весть я принес тебе к празднику Благовещения… Помнишь ты, как мертвые птицы падали с неба у нас в Переяславле?..
Тогда игумен Иадор пустил меня, аки птицу, к Живоносному Гробу Господню за Святым Огнем, которым только и можно спасти нашу землю от злой погибели. И аз, грешный монах, почти два года ходил пешим ходом… Видел Константинов Царьград и Сирию… В Иордане в крещенские дни омывался… И дошел до Русалима… И был в Мисюрь-стране, Еюпете… Там есть град Александра, и егда я был там, мне дано было видение, будто святые князья Борис и Глеб плывут по нашему Клещину озеру в светлой ладье и говорят:
«Исполать Александру Ярославичу, а мы ему всегда сопутствовать будем!» И се тебе первая благая весть!..
Монах замолчал, будто внутренне боролся с чем-то, и Ярославич хотел спросить, какая же вторая весть, но гость снова заговорил:
— Не спеши и не перебивай, а то у меня и так мало времени… Из Мисюрь-страны я вернулся в Русалим и в Великую субботу обрел Огнь Святый от Гроба Господня. И шед с ним вспять, попал в полон и рабство к поганым туркам. Они же разбили лампаду мою и загасили Огнь… Но, быв перед продажею в рабство, аз видех сон про игумена Иадора… И старец предрек мне, что Святый Огнь во мне и что я неотвратимо принесу его тебе… И се тебе, Александре-княже, вторая благая весть! Сейчас я зажгу Святый Огнь Господен, а ты смотри же, береги его пуще глаза, только с ним победиши любого ворога, любую нерусь и нехристь, какая только ни выпадет тебе на веку. И никого не бойся, посему многажды много сулит тебе славы твоя судьба. И хотя век твой будет не долог, быть тебе избранным воеводою и спасителем Земли Русской… А теперь мне пора… Сильно я спешил к тебе, боясь не поспеть к Благовещению, и не поспел бы… Да вот на полпути от Селигера до Торопца помогли мне… Лихой человек убил меня ради забавы, и только так я успел к тебе, свете мой светлый. Звали же меня Алексием… В честь человека Божия… Прощай, Александр Ярославич, вот тебе мое второе и прощальное благословение. А все сие не рци никому же!..