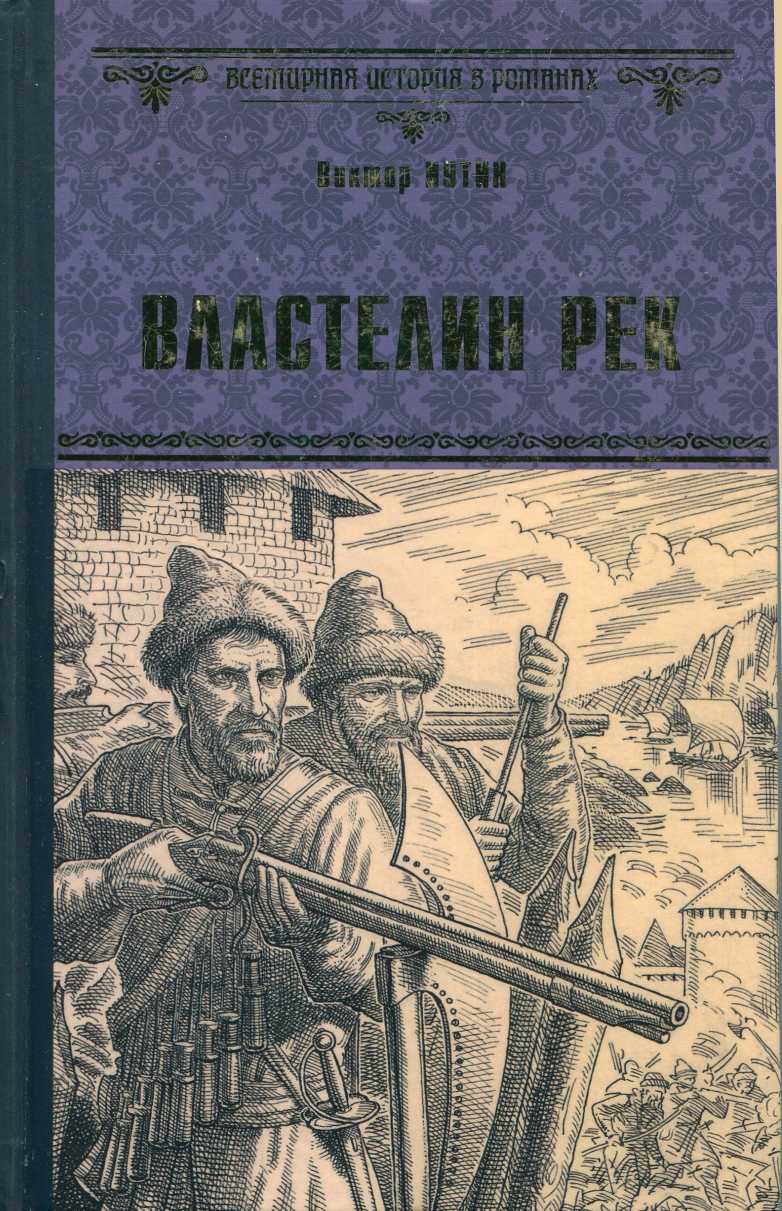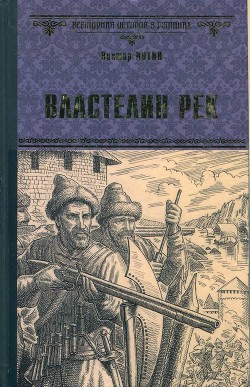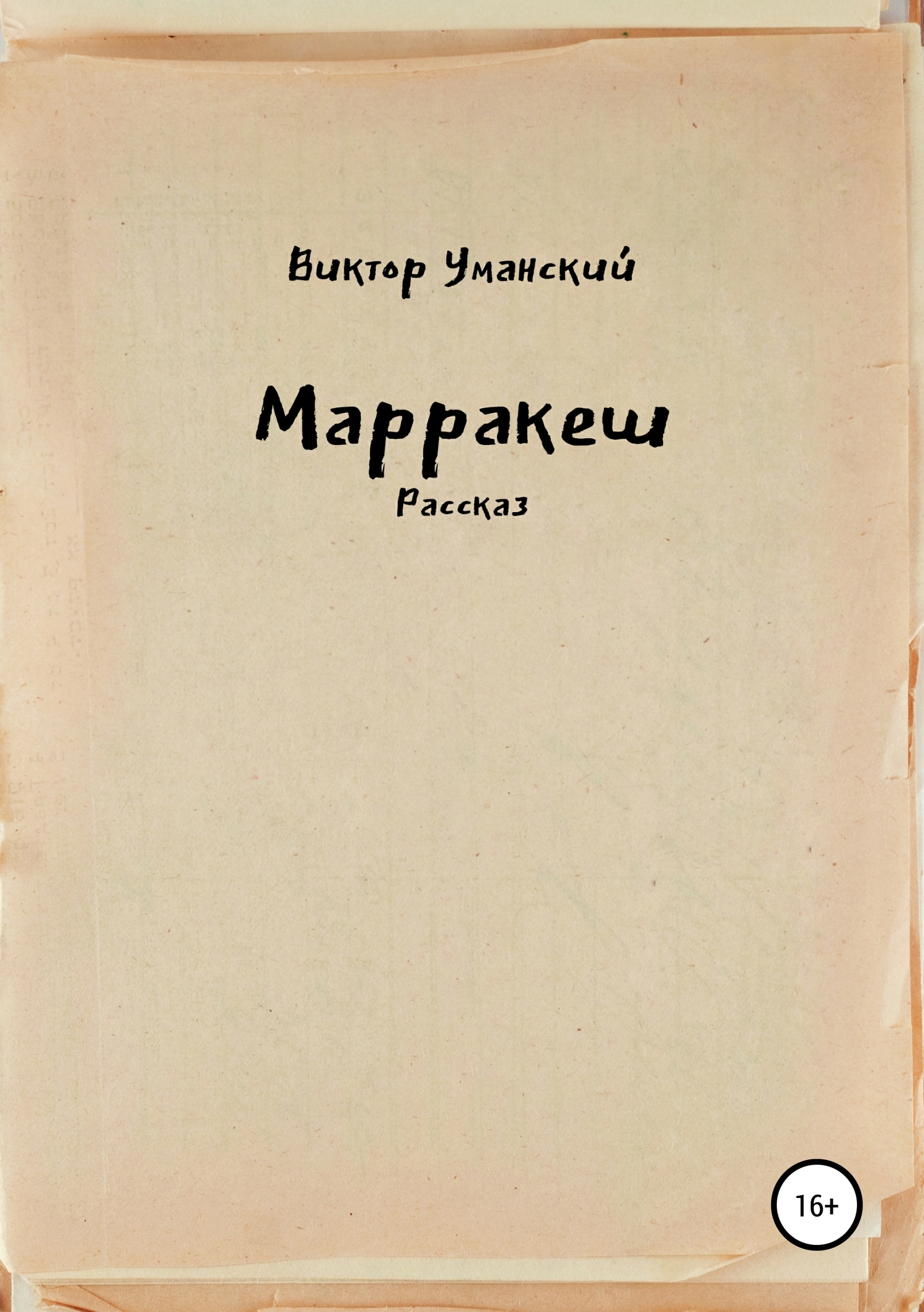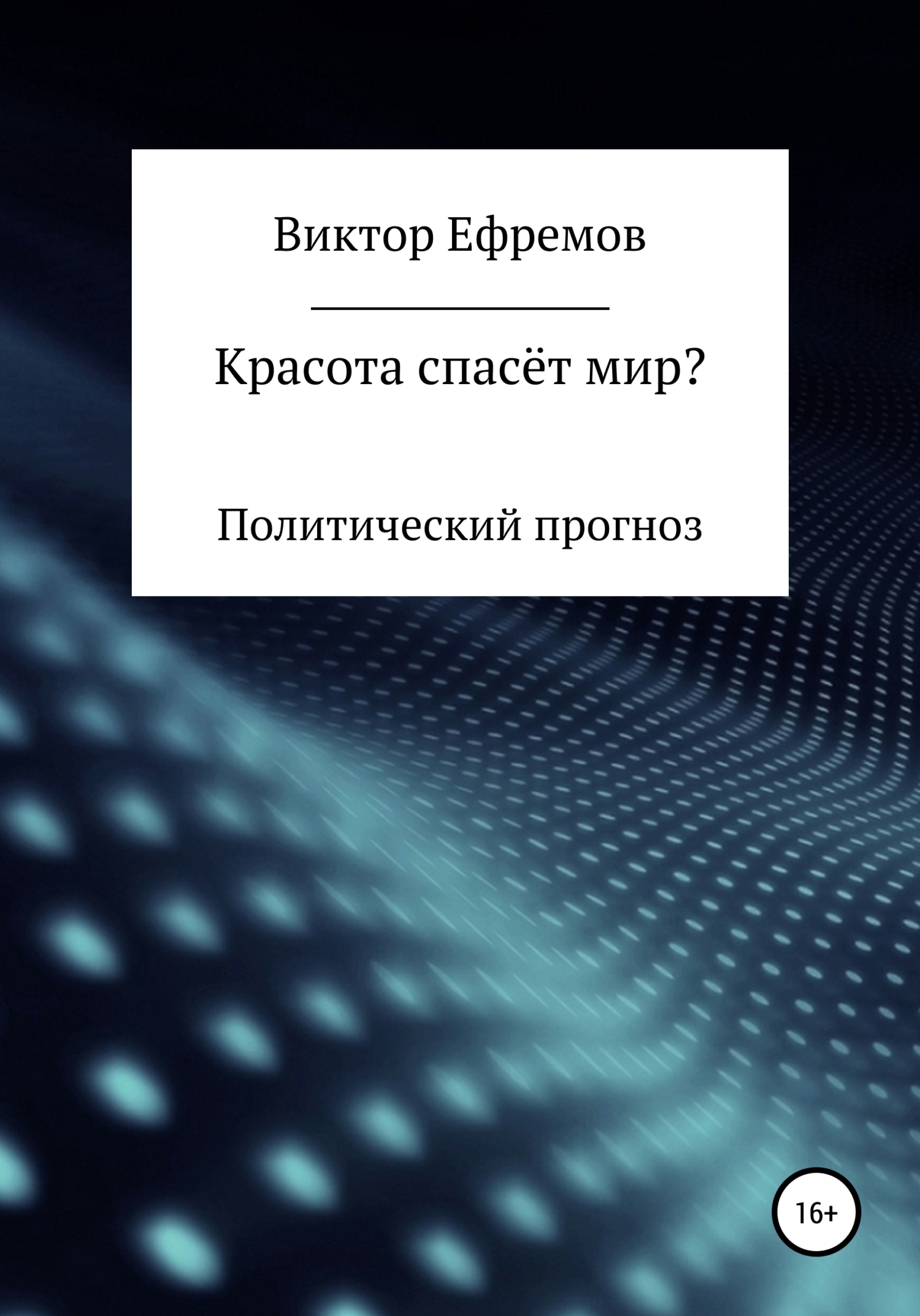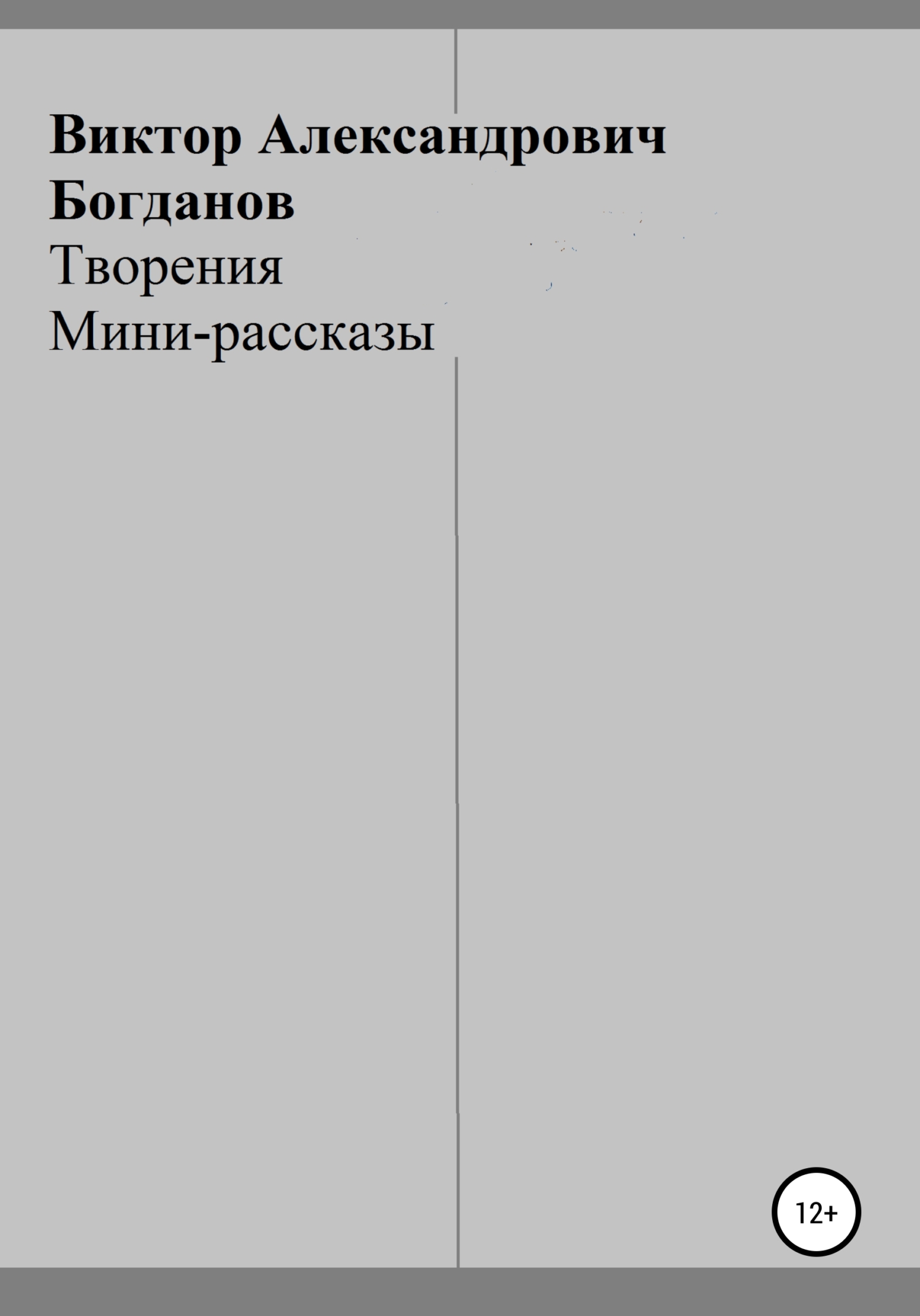Вы заходите! Заходите!
Вступали в хату, и Анна жадно оглядывала все с трепетным чувством — спустя столько лет она наконец дома, пусть и не в родном, где живет Гриша с семьей, но все же. И безвозвратно ушедшее прошлое в каждой мелочи — в старом столе у окна, в потемневших от времени иконах, в стоявшей на полках глиняной посуде, в накрытом тряпьем древнем сундуке… Словно ничего не изменилось за прошедшие годы…
— Воевода-то у нас иной! Того отправили куда-то в дальние края. Говорят, сам бежал, чуть не попался на воровстве! — доложила Матрена, поминая о непростых отношениях Архипа с прошлым воеводой.
— Да пёс с ним, — махнул рукой Архип.
— В дом зайдешь к себе? — осторожно спросила Матрена. — Гришка рад будет принять тебя…
— Нет. Не хочу, — жестко ответил Архип, отворотив лицо.
Отмывшись в бане, сели вечерять. Пришли Гришка с молодой женой и мирно спящим на руках младенцем.
— Семеном назвали! В честь брата, доложил Гришка и опустил глаза. Анна почуяла, как заныла внутри старая рана, давно затянувшаяся, но все еще причинявшая тупую, тянущую боль. После измены Михайлы часто вспоминала она погибшего жениха своего и гадала, какой бы была ее семейная жизнь с ним. Наверняка не пришлось бы ей пережить всего того ужаса, что испытала она за последний год…
Выпили, помянули покойных, со смехом вспоминали минувшие годы, сейчас почему-то казавшиеся беззаботными, легкими и счастливыми. Когда заговорили о Белянке, тягостное молчание нависло над столом. По лицу Анны текли слезы, Матрена уголком платка утирала глаза; сдвинув брови, сидел Архип, глядя в темное мутное окно. И лишь Матвей и Васенька дразнили друг друга украдкой, не в силах пока разделить со всеми общую скорбь по незнакомой им бабушке Белянке…
Когда гости ушли и Анна начала убирать со стола, Матрена спросила шепотом Архипа:
— Ты сам как? Надолго?
— Утром уеду. В Смоленск надобно, — покачал головой Архип.
— Стало быть, ратиться идешь? — упавшим голосом произнесла Матрена.
— Стало быть, так…
— И на кого ты Аннушку с внуками оставляешь? Может, останешься? Нужен ты им… На Анне лица нет, худо ей… И ты уйдешь…
— То решено уж, — твердо отверг Архип, — потому и привез к тебе. Ты уж позаботься. Я Михайле отправлю послание в Псков. Расскажу и о литовском набеге, хотя он уж знает наверняка… И о том, что Анну с детьми к тебе направил… Приеду, как смогу… Да и тебе на земле работать — подмога…
Матрена глядела на него с печалью, смахнула со стола невидимые пылинки.
— Не могу тут находиться. Душит словно, — молвил он шепотом и пятерней грубо потер свое лицо. — Не могу!
— Да я вижу. Ты будто с того света вернулся. Постарел, — покачала головой Матрена. — Токмо береги уж себя, слышишь? Ради детей…
Архип, не поднимая взора, кивнул, затем, вставая из-за стола, с теплотой и благодарностью огладил плечо Матрены.
— Не благодари, — улыбнулась она, — вы ж родные мне все. Ведаю, ежели бы с моими детьми была какая беда, и ты, и Белянка бы не отвернулись. Последнее бы отдали.
Когда Архип, повесив голову, направился в закут за печью, где ему было постелено, Матрена поглядела с болью ему вслед и проговорила едва слышно:
— Бедный… Что ж ты его так рано покинула-то? На кого оставила? Мучается… Ты уж береги его. Береги…
ГЛАВА 3
Снова заседает Боярская дума, снова в спорах первейших лиц государства судьба страны, которая, как многим уже тогда казалось, никак не выстоит в плотном кольце врагов. Тем более, когда их становится все больше. Сама дума же с каждым годом редела нещадно — бояре либо стояли по городам, либо гибли в сражениях, и теперь среди старейших членов думы остались лишь Иван Мстиславский, Никита Захарьин и Василий Юрьевич Голицын. Иные недавно заполучили боярское звание — это бывший опричник Федор Михайлович Трубецкой и любимцы государя — Богдан Вельский, Дмитрий и Борис Годуновы. Уже с трудом верилось, что незадолго до введения опричнины, более пятнадцати лет назад, в думе заседало сорок четыре боярина и тринадцать окольничих!
Отправленные по весне в Ногайскую Орду послы Иоанна, намеревавшегося просить военной помощи у бия Уруса, были ограблены и задержаны, как пленники. И теперь стало известно, что Урус привел орду в двадцать пять тысяч воинов, разорил алатырские и коломенские земли, и это притом, что еще несколько лет назад он уже клялся в своей верности и преданности своего народа русским государям. Молвят, к Урусу присоединились азовские и крымские татары.
Шумели от негодования бояре. Царь и наследник молчали, слушали. На Иоанна было тяжело смотреть. Все поражения и беды державы по-прежнему переживал он с великой болью. Усталый, изможденный, он будто утратил свою величавость, с коей обычно представал перед своими подданными. На троне сидел больной старик, нарочно прятавший трясущиеся длани в длинных просторных рукавах своего шитого золотом платья.
— Помнится, Урус уже воевал супротив нас, — молвил Федор Трубецкой, широкий в кости, осанистый, с годами ставший похожим на сытого медведя. — Тогда, когда крымский хан подверг Москву сожжению, он со своими воинами участвовал в походе! И при Молодях на стороне татар немало мурз Уруса полегло! Ныне он бесчестит наших послов и разоряет наши земли! Разве не стоит ему поплатиться за такую дерзость?
— Стоит напомнить ему, как после победы при Молодях волжские казаки захватили и разорили его Сарайчик [1], — молвил со своего места Никита Романович.
Иоанн и сам думал о том. Ногайского бия следовало снова поставить на место. Писать послание, угрожать, для верности снова поднять казаков против ногайцев, дабы устрашить, затем снова снаряжать послов и принуждать Уруса к миру, ибо воевать с ним у России уже не было сил. Иоанн кивком головы согласился со словами бояр, Щелкалову тут же был передано государево решение, и Посольский приказ писал Урусу вскоре:
«Ежели государь прикажет вас воевать казакам астраханским и волжским, они над вами и не такую досаду учинят [2]. Нынче же нам казаков наших унять нельзя».
Отправлено будет тогда же послание и казакам, дабы