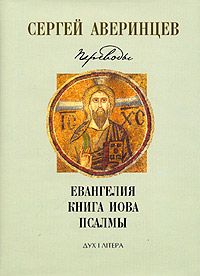Кондрат улыбнулся.
— Так за час какой-то и пошабашили.
Алесь молчал. Смотрел на пеструю людскую цепочку.
— Тебе что, неинтересно? — спросил Кондрат.
— Почему, интересно.
— А кто человек — даже и не спросишь.
— Я знаю, — спокойно сказал Алесь, — зачем мне спрашивать? Корчак убежал с каторги. Помните, как я вам рассказывал про Покивачев сеновал? — спросил Алесь. — Ну, еще дуб сухой почти над нашей головой развалило. Вот тогда и слышал.
— И никому не сказал? — удивился Мстислав. — Такого страху натерпевшись?
На лице Алеся плясало красное зарево от костра. Загорский подумал, вздохнул и рассказал хлопцам про подслушанный разговор.
— Потом, уже в пути, я догадался, какого Будимира они на чью-то стреху пускать хотели. Этот дуб меня и навел на мысль. Будимир тот, кто мир, свет будит. Петух.
— А Варган? — спросил Мстислав.
— Кот Варган. Дым. В каждую щелку пролезет. Мягкий такой, ласковый. Огонь его выпустит, вот он и поползет к божьим овцам, к облакам… Я подумал: кто из округи еще в Сибири шишки ел с голода? Один Корчак. Значит, он и убежал.
Загорский грустно улыбнулся.
— Я мужик, — тихо сказал он. — Я князь, но я и мужик. Возможно, меня этим дядькованьем несчастным сделали. Но я этого несчастья никому не отдам. В нем мое счастье. Оно меня сделало зрячим. Возвратило моему народу. Гонимому, облаянному каждой собакой. И я теперь с ним, что б ни случилось.
Хоровод плыл около них, темный с одной стороны, ближе к ним; багровый по ту сторону костра.
Кто-то подбросил в костер большую охапку хвороста. Пламя потускнело.
— Удивляешься моему поступку с Корчаком, — продолжал Алесь. — Ты не видел, а я своими глазами видел, как Кроер его убивал. Однако не Кроер его добил, даже не кат на суходольской площади. Добила его ваша, мужики, неправда.
— Еще что сплети…
— А то нет? Что, не свалили пивощинцы на Корчака всю вину? Свалили. Ну ладно, случилось так. Так имейте же совесть. Обеспечьте жену с малыми детьми. А пивощинцы, собравшись на сход, вместо того чтоб подумать о них, вроде как обрадовались, что вдова одна не сможет землю обработать, обрезали тот загон несчастный наполовину. Куска той земли вашим сквалыгам, серым князьям, не хватало. Не нажрались. Что, неправду я говорю?
Кондрат опустил глаза.
— Я понимаю, от нищеты такая жадность. Но за счет братской крови да слез не разбогатеешь. Его землей мизерной — не налижешься. Значит, и ваша великая правда замарана. И потом Кроер…
Ревущий огонь взвился выше стрех. Кожу стягивало от жары. Алесь завернул рукав и сильно потер запястье. На нем выступил едва заметный шрам.
— Первый раз в жизни меня ударили. Я таких вещей не забываю. Пускай себе Корчак ходит. Его обидели, не он. Настоящим людям это только на руку. Пусть знают: не у всех еще душа сгнила.
Разговор прервал шум у костра. В круг вошел босоногий, с голой грудью и в длинном белом кожухе бог холода — Зюзя. Льняные усы закинуты на плечи, льняная грива волос свисает ниже лопаток. Зюзя грозно рычал, грозился на людей пальцем, плевал на огонь, босыми ногами вскидывал в воздух снег, словно хотел сделать пургу. Глаза Зюзи смеялись. Это был переодетый озерищенский пастух Данька. Чтоб ноги не чувствовали холода, хватил три чарки горелки. Играть так уж играть. Всем ведь известно, что Зюзя босой. От выпитого Даньке было весело.
— Заморожу, — рыкал он. — Как медведь навалюсь.
За ним волосатая стража несла соломенное чучело Коляды. Коляда повернулась спиной к костру, смотрела во тьму плоскими, нарисованными глазами. Хлопцы и девки кидались на стражу, чтоб повернуть Коляду лицом к огню, и летели в снег, отброшенные стражей. Гремел над кутерьмой и свалкой оркестр деревенских музыкантов. Гудели две скрипки, певуче охал бас, медведем ревела волынка, нежно сопела жалейка, звонко ударяли цимбалы, и выше всего хаоса звуков взлетал, заливался и вздыхал бубен. В Озерище были лучшие музыканты.
И музыка взвивалась выше хат, казалось — прямо под самые звезды.
Данька притопывал босыми ногами, хватал визжавших девок, целовал и запихивал каждой за воротник горсть снега.
— Подходи — из каждого снежного болвана сделаю. Из каждой хаты — волчью яму. Хоть волков морозь.
Но тут молодежь набросилась на стражу, вырвала Коляду из рук и повернула-таки ее лицом к пламени. А девки повалили Даньку в снег, начали щекотать.
— А девоньки, а таечки, — медвежьим голосом ревел Данька, мелькая в воздухе красными пятками, — ей- богу, не буду. Нехай уж весна, нехай…
Хлопцы отбили его, понесли вместе с Колядой в хату. Даньку — поить водкой, Коляду — спрятать, чтоб потом, на масленицу, когда зима не только повернется к солнцу, но и отступит, сжечь ее на этом же месте.
…Мстислав улыбался воспоминаниям, не обращая внимания на то, о чем беседуют Мнишкова Анеля и Янка.
— Клейна меня усыновила. Теперь я брат Ядзеньки и всем, казалось бы, ровня. А только меня не покидает беспокойство. То счастлив, а то как вспомню, какой я черный, — ну хоть ты плачь.
— Конечно, — мягким голоском соглашалась Анеля, — на родине тебе легче было б, там все такие. Но что же поделаешь, если уж сюда попал! Ты ведь даже сам не знаешь, где твоя родина.
— Здесь, — сказал арап. — Мне теперь там все было б чужое. Я и языка своего не помню. Может, несколько слов. Здесь мой язык и моя земля.
— А ты ни капельки не посветлел с того времени? — поинтересовалась Анеля.
— Нет. Это уж навсегда. Такая въедливая штука.
— Ну и не печалься, — утешала Анеля. — Ну и что, что черный? Ты ведь добрый. И теперь дворянин.
Она умела успокоить и утешить. От матери передалась ей женственность и особенная мягкость. И еще было в ней то милое кокетство, которое так умеет возвысить собеседника в собственных глазах. Возвысить простым — и непростым — признанием его достоинств.
— Ты хороший… Вон Ходанский. Белый, а глаза б на него не глядели.
— А девичий круг?
— Да ведь ты красивый. Бесцветные, по-моему, хуже. О рыжих я уж и не говорю. А они веселые и в ус не дуют. И ты будь весел.
Мчались кони. Низко над землей светил Сириус.
… В санях тихо беседовали Грима и Ядзенька Клейна.
— И Янке будет счастье, — растерянно говорила девушка. — Одна я… Одна я, словно в самом деле клеймом помечена. Даже фамилия пророческая. Где уж тут добра ожидать.
— Брось. Не убивайся так. Подумаешь, свет клином сошелся. Радостей много.
— Какие?
— Наука. Книги. Чтоб все на свете помнить и быть мудрым.
— Это для мужчин.
— Что ты женщин порочишь, — приглушенно басил Всеслав. — Для всех, думаешь, мужчин мудрость?
Жалобно, по-бабьи, вздыхал, косился на грустную, синеокую и такую уже большую куклу.
— А ты Франса зачем обидела? Он хороший.
— Знаю. Но не могу я пока… Франса видеть. Может, месяца два-три пройдет, тогда…
— Натравишь ты их друг на друга, — ворчал Грима. — Франс из-за тебя на Алеся сердится. Илья из-за Майки на него волком смотрит. Натравишь.
— Дурачок ты, — грустно сказала она. — Алесь ведь ни в чем не виноват. Франс не может этого не видеть. А Илья вообще… Никого он, кроме себя, не любит. Гонор. Он ведь старше, он добровольно в Севастополе был. У него солдатский крест. А здесь отдают предпочтение почти мальчишке.
Кони зацепили край сугроба. Мягкой пыльцой осел на лица снег.
…В третьих санях дурачился Загорский-младший. Волтузился со Стасем и Наталкой. Фельдбаух на козлах уже несколько раз угрожал оставить их в снегу.
Вацлав со Стасем спустили ноги с саней и бороновали ими снег. Снежная пыль летела прямо в глаза коням задней тройки. Наталка, смеясь, хлопала в ладоши и пела:
… Поморозил лапки,
Влез на полатки.
Стали лапки греться -
Негде котке деться!
При последних словах мальчишки поднимали ноги, и снег с их валенок сыпался прямо в сани, под полог.
…Франс и Илья ехали молча. Сдержанное, приветливо-безразличное ко всему лицо младшего Раубича окаменело. Илья, сняв шапку, подставлял рыжеватую голову снежным брызгам.
Где-то далеко впереди заливались детские голоса…
— Радуются… — мрачно сказал Илья. — Не надо было нам с тобой, брат, сюда ехать.
Франс молчал. Лишь уголок губ дернулся на матово-бледном лице.
— Я его не терплю, — сказал Илья. — Подумаешь, любимец богов. Не знаю, трогает ли его что-нибудь в этом мире.
Младший Раубич шевельнул губами, но ничего не сказал. Знал, что сосед неправ, но не мог возразить. Он долго молчал и вдруг, ощутив странный, колючий холодок в корнях волос, с удивлением подумал, что он, кажется, начинает ненавидеть молодого Загорского. И, чтоб не дать чувству прорваться, Франс спросил тоном благовоспитанного молодого придворного:
— Что вы думаете об императоре? Я имею в виду его слова о том, что нынешний порядок владения душами не может остаться неизменным.