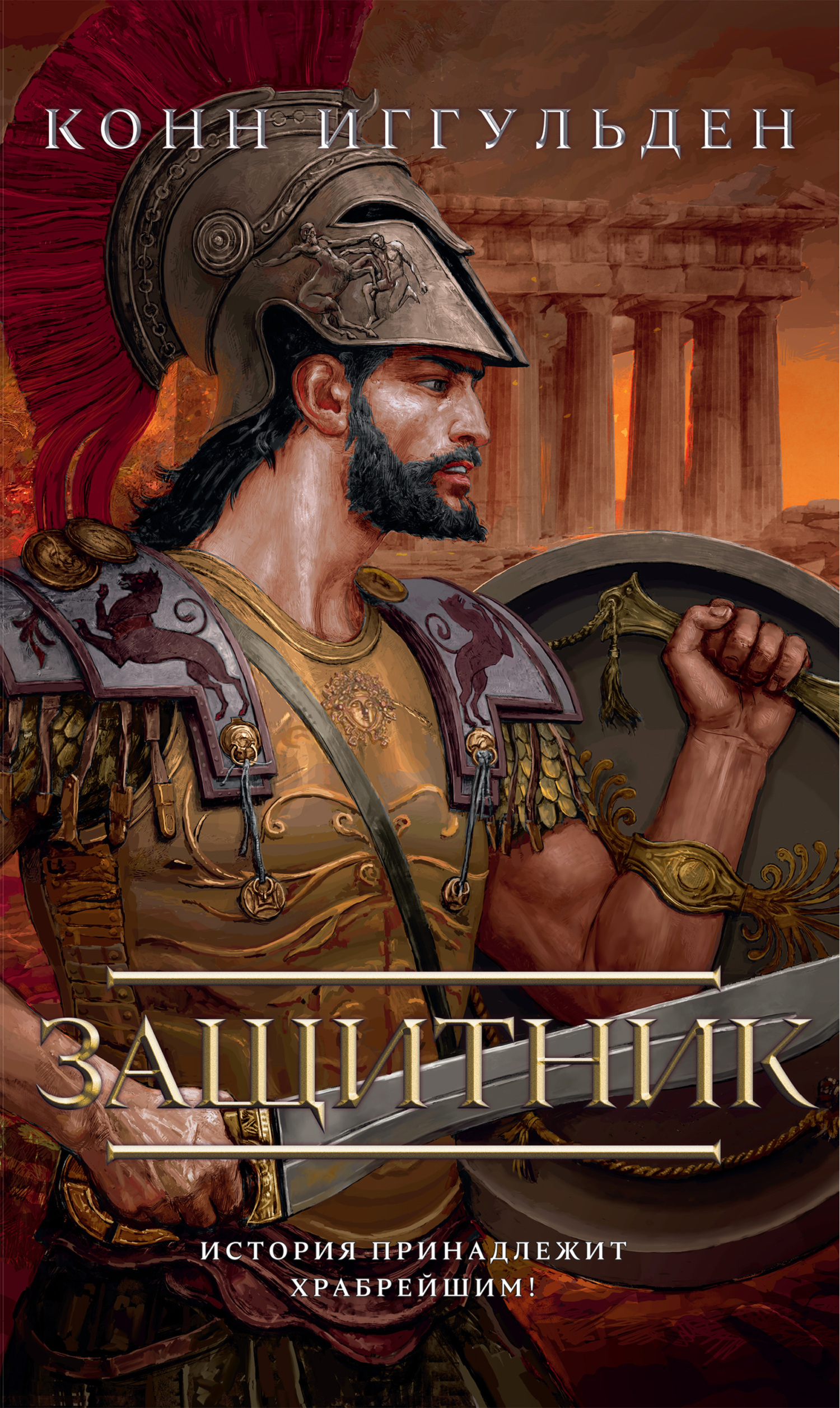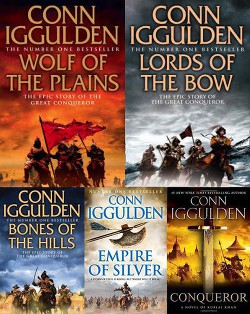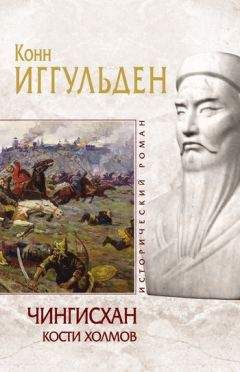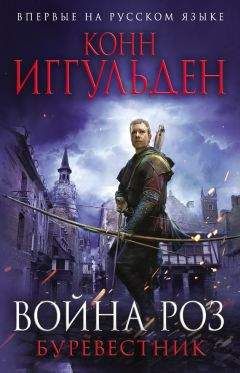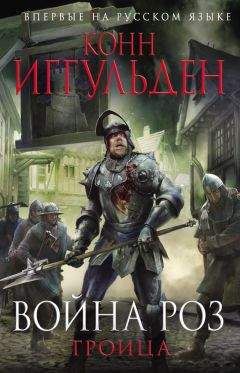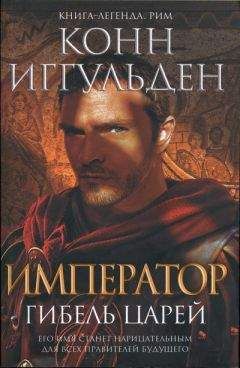мелкими обвинениями, которые не более чем сплетни.
Он презрительно фыркнул. Поверить собственным глазам было трудно, тем более под озабоченным взглядом Аристида. В этом человеке не было злорадного удовольствия. Не было тайного торжества и в Ксантиппе.
Здесь, на безлюдной ночной агоре, Фемистокл вдруг почувствовал себя опустошенным и усталым. Он негромко выругался.
– Надежда есть всегда. До тех пор пока хотя бы кто-то любит меня, надежда остается.
– Последнее, что осталось в ящике Пандоры, после того как из него вылетело все зло мира, – добавил Аристид.
– Ну, это уж совсем не утешает, – сказал Фемистокл, выдавив из себя усмешку. – Ну да ладно, идем. Надо хотя бы попытаться заснуть. Не хочу пропустить, как великие и добрые Афины скажут, какой я мерзкий, отвратительный негодяй.
Он повернулся к зданию совета, где их ждали тени скифов, и спросил:
– Видишь этих?
С появлением зрителей Фемистокл преобразился. Он гордо поднял голову, расправил плечи и зашагал по залитой лунным светом агоре, размахивая руками.
– Никогда не показывай, что тебе больно, – бросил Фемистокл через плечо, и его голос отозвался эхом.
Глава 34
Здание совета Фемистокл покинул на рассвете, но улицы уже были заполнены толпами горожан, спешащих занять места поудобнее на высоких склонах или даже на каменных ступеньках Пникса. Сам Фемистокл выглядел свежим и подтянутым, и его чистая одежда сияла в розовом свете зари. В окружении сотни скифских стражей он хмуро поглядывал по сторонам, чувствуя себя скорее пленником, чем свидетелем.
– Ты что такой угрюмый? – спросил он у начальника скифских лучников. – Беспокоишься за меня?
Скиф не ответил, и Фемистокл выругался под нос, выразив свое мнение о низкорослых мужчинах и их достоинстве.
Аристид уже был у подножия холма вместе с Ксантиппом и Кимоном. Увидев их, Фемистокл был приятно удивлен. Среди стражников возникло замешательство, поскольку их начальник решил, что не может запретить знаменитым афинянам сопровождать человека, которого он считал своим пленником.
– Пришли посмотреть на приговоренного? – приветствовал их Фемистокл.
Он был рад видеть знакомые лица. Аристид пристроился рядом, Ксантипп и Кимон вышли чуть вперед. По склонам карабкались толпы афинян, и останавливаться никто не стал. Фемистокл представил, что не сможет найти себе места на собственном суде, и ухмыльнулся. Что бы они тогда делали, если бы некого было обвинять?
– Мы пришли поддержать тебя, – сказал Кимон.
Эти слова поразили Фемистокла, как удар в сердце. Он слегка пошатнулся и даже поцокал языком.
– Люди любят меня, – сказал он и повысил голос так, чтобы его услышали как можно дальше. – Я спас их всех – мужчин, женщин и детей.
Он заметил, как Ксантипп опустил голову, и его лицо потемнело от напряжения. Когда-то он выглядел лучше. Впрочем, как и они все.
– Для меня очень важно, что вы здесь, – сказал Фемистокл. – Я этого не забуду. Однако не ждите, что я уйду тихо. Если это будет суд, я могу его выиграть или – если меня признают виновным – выбрать наказание, которое смогу вынести. Но если меня накажут изгнанием…
– Тогда прояви смирение, – посоветовал Ксантипп. – Это все, чего они хотят. Покажи им, что тебя не коснулось все то, что мы видели.
Помолчав, Фемистокл спросил:
– А ты, Ксантипп? Ты изобразишь кающегося для тех, кому не терпится увидеть, как я плачу и рву на себе одежду? Мне что, втереть пепел в волосы и раскачиваться взад-вперед, как выжившая из ума старуха? Этого им хватит?
Он увидел, как проступили желваки на скулах Ксантиппа. Этот человек постоянно вскипал, и гнев бурлил в нем. Он тоже похудел, и в волосах появилось больше седины. Горе и чувство вины состарили его.
– Я согласен с Ксантиппом, – сказал Аристид, когда стало ясно, что сам Ксантипп решил отмолчаться. – На все остальное – все эти обвинения в воровстве и нечестных сделках – на них можно ответить. Ущерб можно возместить. Эти люди, они просто хотят, чтобы их услышали. Покажи им, что ты один из них, и они снова полюбят тебя.
Фемистокл посмотрел на друга. Аристид пришел в ветхой хламиде, выглядевшей старше любого из них. Он не выставлял напоказ свою добродетель и потому пользовался всеобщей симпатией. Но Фемистокл знал, что этот человек осуждает его слабости. К пальцам Аристида никогда не прилипло ни одной монеты. Все, чем он когда-либо владел, он раздавал афинским беднякам. Фемистокл искренне считал, что ничего, кроме одежды, у Аристида нет. В отличие от него, Кимон в обычные дни разгуливал с товарищами в прекрасных дорогих гиматиях единственно для того, чтобы дарить их первым попавшимся оборванцам, которые попросят. Ксантипп еще до войны женился на женщине из состоятельной семьи, а богатство, как известно, идет рука об руку с властью. Они были его друзьями, в этом Фемистокл не сомневался. Однако они не знали бедности, а если и знали, то потому лишь, что сами это выбрали. Бедность – это нечто навязанное человеку. Если кто-то решил терпеть ее, но при этом мог сбросить в любой момент, как изношенный плащ, то такая бедность ненастоящая.
Фемистокл признавал, что все они по-своему великие, но все же не понимают его. После всего пережитого вместе он не ожидал, что почувствует себя чужим в этой группе. Однако же так было.
По мере того как ступени становились круче, дышалось все труднее. Теперь вокруг теснилась плотная толпа. Соотечественники, те, кого Фемистокл так любил.
Он наклонился и, понизив голос, заговорил:
– Я не помню никого из вас в те времена, когда мне приходилось драться за еду или когда я писал первые прошения для семей, в которых никто не знал грамоты. Думаю, вас сделали ваши отцы, всех вас. Я же сделал себя сам – и в этом разница между нами. Вы можете пережить потерю, подобную той, о которой говорите, и, по-моему, какую-то вашу часть она даже не затронет. Вы смогли вернуться к своей прежней жизни после изгнания, и оно не стало для вас клеймом, горящим на коже. – Он улыбнулся, но не весело, а как будто скривился от боли. – Но для меня станет. Они могут делать что хотят. Я ничего им не дам. И уж конечно, я не поступлюсь своим достоинством. Они не услышат от меня ни слова, не услышат извинений, не увидят ни слезинки. Если это означает остракизм, я приму это.
– Стоит ли это жизни? – тихо спросил Аристид. – Всего, ради чего ты работал?
– Конечно стоит! Я афинянин. Я сделал себя тем, кто я есть, и я спас нас всех. И после этого вот так? Остальное не важно. Даже их благодарность.