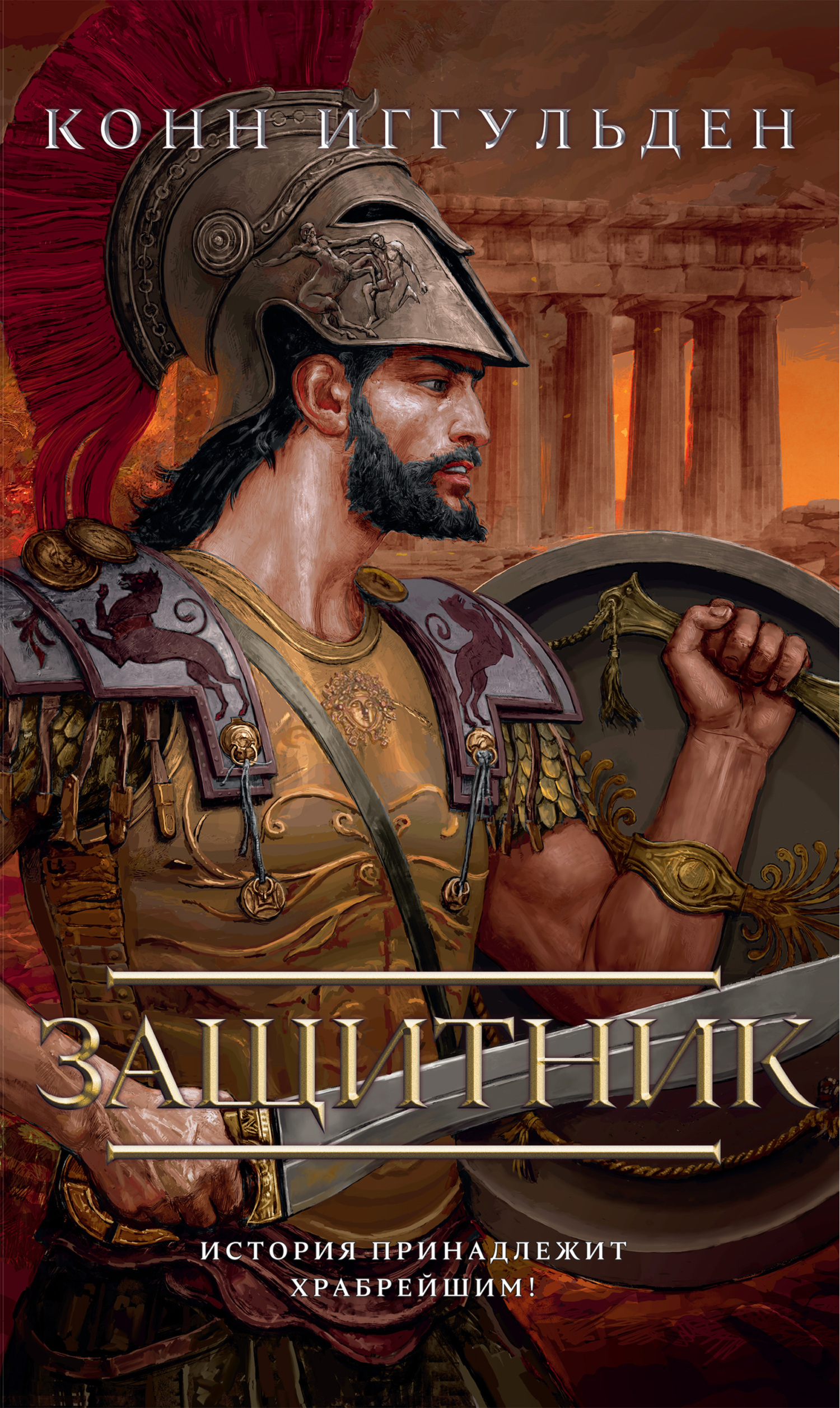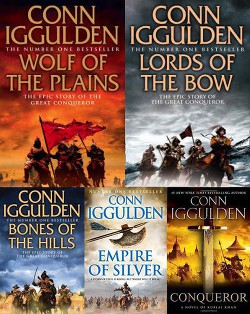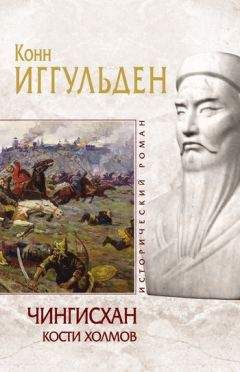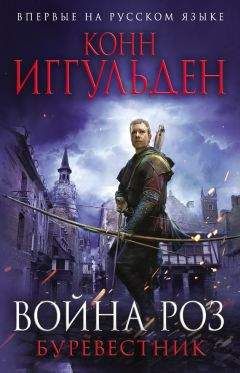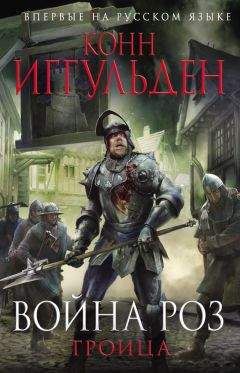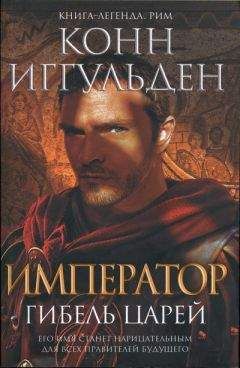человека.
Когда Перикл подошел к Аристиду, стоявший неподалеку эпистат с подозрением посмотрел на обоих. Высказываться на тему обсуждения запрещалось, и Аристид, взяв Перикла за руку, отвел его подальше от толпы.
– Ты не можешь это остановить? – прошептал Перикл.
Аристид был потрясен. Ему представлялось, что сын Ксантиппа стал бы одним из выступавших против Фемистокла. Серьезные люди, как правило, плохо понимают тех, кто смеется над ними – над жизнью. Однако Перикл выглядел бледным – определенно от беспокойства. Интересно, как поступил бы его брат Арифрон, встал бы он в очередь, чтобы положить остракон в урну для голосования?
– Ничто не может, – ответил Аристид. – Такого никогда еще не случалось. Я только желал, чтобы все закончилось в первый день. Тогда у него было бы больше шансов. А получилось так, что афиняне услышали все слухи, жалобы и обвинения, справедливые или несправедливые, со всеми подробностями. Они хорошо выстроили это дело. Нас с твоим отцом изгнали за меньшее.
– Значит, это все? – не отставал Перикл. – Скажи, что я могу сделать?
– Ничего, – произнес Аристид, добавив голосу предостерегающую нотку. – Если бы здесь была урна для сторонников Фемистокла, она бы переполнилась. У него есть друзья, есть те, кто любит его. Это никогда не вызывало сомнений. Я боюсь тех, кто ненавидит, но не знает его. Они знают только то, что услышали за эти дни, то, что люди говорили в гневе и горе. Они больше не верят ни единому его слову, и если они такие глупцы, то я никак не могу на них повлиять. Закон суров и прост. «Если экклесия отвернется от человека, она может проголосовать за изгнание его на десять лет, независимо от имени или положения, из Афин и всей Аттики. Нет никакой защиты от воли народа, никакого обжалования. Таким образом мы защищаем себя от появления тиранов».
Аристид процитировал строчку из давно умершего Клисфена.
– Какой суровый закон, – сказал Перикл.
– Запомни, – стал поучать его Аристид, схватив за руку, – я сам стоял на этом месте и слушал приговор моего народа, который изгнал меня из Афин. Будь здесь твой отец, думаю, он сказал бы то же самое. Мы с ним знаем, что это значит, но ни Ксантипп, ни я никогда не пытались изменить закон. Это самая последняя защита обычного человека.
Вместо ответа Перикл покачал головой. Аристид опустил руку, ожидая реакции юноши. Когда-то на него произвел впечатление Кимон. Аристид надеялся, что однажды так случится и с Периклом. Молодые афиняне понимали, что важно, а что нет, и это воодушевило старика.
– Такое голосование на семь лет отняло у меня отца, – сказал Перикл, которому не понравилось, что его схватили за руку, и румянец еще разливался по его лицу и шее. – Я был всего лишь ребенком. Думали ли они обо мне тогда, когда голосовали за то, чтобы отправить героя Марафона в изгнание? Нет, не думали. Простые люди собрали всю свою злобу и все свои неудачи и нацарапали на черепках имя моего отца. Так же они поступили с тобой. По правде говоря, я не могу поверить, что ты стал бы защищать этот закон. Фемистокл сделал для спасения народа больше, чем кто-либо другой! И они изгонят его из города? Из-за чего? Из-за того, что он использовал битые надгробия, чтобы поставить ворота? Из-за того, что искал серебро в их вещах, когда этих людей спасал его флот?
– Наш флот, – поправил Аристид.
Он увидел, что эпистат хмуро смотрит в их сторону, и отошел немного дальше. После объявления голосования всякие речи на холме запрещались. Если на кого-то запрет не действовал, эпистат мог призвать скифскую стражу.
Когда они отошли на десяток шагов, Перикл посмотрел на Аристида в замешательстве:
– Что?
– Флот построили на афинское серебро, Перикл. Афиняне сидели на веслах и сражались. Фемистокл, безусловно, сыграл свою роль, посвятив всего себя служению городу. Так же поступали твой отец и Кимон, они работали на благо Афин до изнеможения. Они отдали все, что у них было, как и гребцы и гоплиты на палубе. Но они не спасали людей. Люди спасли себя сами! Пойми это, и тогда, возможно, поймешь, почему столь многие негодуют на него. Фемистокл не позволил им гордиться тем, что они сделали. Сколько раз он говорил им, что они обязаны ему своей свободой? Клянусь, гордыня этого человека сокрушила бы камень. Что ж, вот и результат!
– Числа не определяют справедливости, – твердо сказал Перикл.
Аристид замер:
– Нет? А есть еще что-то? Предлагаешь отдать голоса богатым? Или тем, кто вел других на войну?
– Может быть! – сказал Перикл и покраснел, смущенный собственной горячностью.
Аристид говорил с абсолютным спокойствием, словно дразня своими доводами. Перикл едва сдерживался, чтобы не зарычать на него. А между тем афиняне выстраивались в очередь, несли маленькие глиняные черепки и бросали их в урну, решая судьбу человека.
– Если бы мы это сделали, – ответил Аристид, – сколько времени прошло бы, прежде чем наше общество перестроилось бы для войны? Стало таким, как Спарта! Если бы голосовать могли только стратеги, мы бы увидели бесконечную войну, убивающую нашу молодежь только для того, чтобы создавать таких правителей. Или это богатые должны вести нас? Твой отец, как я слышал, не был очень уж богатым до того, как женился на твоей матери. Разве золото дарует мудрость? Стал ли он после этого брака лучше, чем был до него? Возможно. Некоторые мужчины даже признаются в этом.
Он усмехнулся собственному остроумию, но Перикл по-прежнему смотрел на него с каменным выражением лица и как будто чего-то ждал. Это читалось в его глазах.
Аристид вздохнул и продолжил:
– До того как дяде твоей матери Клисфену было поручено переписать афинские законы, они покоились на установлениях великого Солона. Он посвятил свои таланты созданию законов для Афин. Его друг Анахарсис насмехался над ним, упрекая в том, что он потратил на эту задачу лучшие годы жизни. Анахарсис был скифом и говорил, что законы подобны паутине, что они заманивают в ловушку бедных и слабых, но их разрывают сильные. Так было везде, понимаешь? И все же Солон продолжал трудиться, а завершив, представил свой свод законов всем афинянам, богатым и бедным, владеющим землей и не имеющим ее. Затем он покинул город и десять лет путешествовал по миру. Солон слишком хорошо знал свой народ. Он знал, что, если останется, люди будут просить его пересмотреть то и это, говоря: «Да, но как быть, если мужчина женится во второй раз?» и так далее. Он ушел, чтобы они не могли изменить