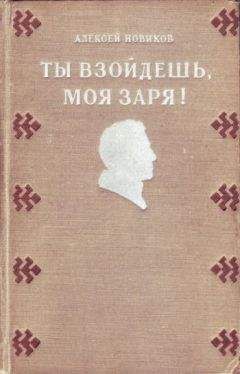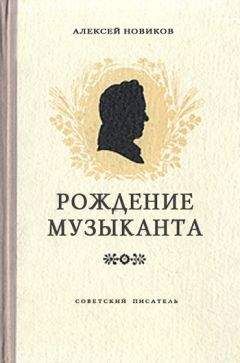Ознакомительная версия.
Владимир Федорович приступает к работе над повестью о Себастьяне Бахе и хочет пустить несколько ядовитых стрел в новых Гаффариев от музыки, которые встречаются у всех народов во все времена. Но в кабинете появляется лакей, посланный княгиней.
– Не угодно ли его сиятельству пожаловать в гостиную?
– Занят, – сердито отвечает Владимир Федорович. – Передай княгине, что буду занят весь вечер и покорно прошу меня простить.
На сегодня назначена поездка с Глинкой к Жуковскому, и Владимир Федорович нетерпеливо поджидает дорогого гостя. А Глинка приходит такой веселый, такой радостный, что у Одоевского срывается невольный вопрос:
– Что случилось, Михаил Иванович?
– Ничего не случилось, – отвечает Глинка Не станет же он рассказывать о том, что в его одинокой жизни произошли какие-то едва заметные перемены. Милая Мари ждет его каждый вечер, как бы поздно он ни вернулся; она поет его романсы, правда нетрудные, и учит их с голоса, потому что все еще не тверда в нотах; Мари прочитала «Онегина» и берется за «Дон-Кихота». Глинка улыбнулся своим мыслям: совсем было бы нелепо рассказывать об «Онегине» или «Дон-Кихоте».
– Слава богу, ничего не случилось, – повторяет Глинка. – Прежде чем мы поедем к Василию Андреевичу, я покажу тебе кое-что обработанное. – Он достал ноты из портфеля. – Я начал с того, чем обычно кончают. Увертюра «Сусанина» написана в четырехручном изложении. За какой рояль ты сядешь, Владимир Федорович?
Они сыграли увертюру, и, прежде чем Одоевский мог что-нибудь сказать, Глинка снова заиграл.
– А вот тебе и первое явление Сусанина. Песню эту я, помнится, услышал от извозчика под Лугой.
– Ты нашел редкостную песню! – сказал, прослушав, Одоевский.
– Нашел? – переспросил Глинка, проигрывая тему. – Нет ни заслуги, ни труда в том, чтобы отыскать песни на Руси. А правда, хороша? Этакий в ней характер… – Он покосился на Одоевского и увидел, какое неотразимое впечатление произвели на Владимира Федоровича первые звуки будущих речей Ивана Сусанина.
Глинка встал из-за рояля.
– Надеюсь я, – сказал он, – что песня не только арии насытит, но и все речитативы преобразует. Когда откажемся от итальянских скороговорок и упраздним диалоги, которые прерывают течение музыки в немецких операх, тогда приблизимся к драме в музыке.
– А хоры? – спросил Одоевский. – Много ли будет у тебя хоров?
– Ох, уж эти мне хоры! – Глинка вздохнул. – Придут люди неизвестно зачем, пропоют неизвестно что, а потом и уйдут с тем же, с чем пришли.
– Такова, к сожалению, оперная практика, – согласился Одоевский, улыбаясь меткому определению Глинки. – Но разве тот же хор не может стать действующим лицом? – Исчерпав многие ученые аргументы, Владимир Федорович прибег к последнему: – Ведь ты задумал «Ивана Сусанина» как драму народную. Как же ты покажешь Сусанина без народа?
– Вот то-то и оно, Владимир Федорович. Народ будет главным действующим лицом в моей опере, иначе не понять, откуда родился характер Сусанина. И без хоров мне никак не обойтись. Только ни в чем не будут они схожи с теми хорами, о которых я сказывал. Музыкального бомбаста, сиречь напыщенной бессмыслицы, никак не приемлю.
– Выходит, что я ломился в открытую дверь?
– Выходит, так, – признался Глинка. – Хотелось мне мои собственные мысли еще раз проверить.
– А план оперы? – вспомнил Одоевский. – Ведь ты обещал изложить все содержание и развитие драмы.
– Кое-что сделал. Впрочем, еще не все картины записал. А готовые у Жуковского прочтем, нечего время зря терять. Хочется мне музыкой тебя попотчевать, изволь слушать! В интродукции действуют у меня два хора. В костромском селе Домнине по весеннему времени на берегу реки толпится народ, а время, сам знаешь, какое. Паны ляхи довели Русь до крайности. Мужикам, конечно, не до весны. Ну, а бабы на солнышке пригрелись. Как тут хоть на минуту в песне не забыться? Приходилось ли тебе, Владимир Федорович, наблюдать, как поют одновременно разные песни? Слышится в них то случайное смешение звуков, то получается удивительное согласие, словно пошли песни в обнимку. Тут перед музыкантом открываются такие неожиданности… Но сколько бы новизны и житейской правды ни открылось мне в этом смешении песен, ни к чему бы было все это, если бы не послужило средством к раскрытию мысли.
– Да играй, наконец, твою интродукцию! – не вытерпел Владимир Федорович.
Глинка подошел к роялю.
– Ох, несчастье! – сказал он. – Ведь мы к Жуковскому и так опоздали!
По дороге к Жуковскому Одоевский размышлял вслух:
– Опера твоя, Михаил Иванович, требует проникновенных слов. Тут нельзя сфальшивить. А писать за народ нелегкое дело. Посмотрим, как справится Василий Андреевич, когда услышит твою музыку.
– А план-то для чего? – перебил Глинка. – В плане все указано. Недаром сижу ночами.
– Так вот, Михаил Иванович, начал я кое-что марать для вашей оперы, – с обычной приветливостью говорил Жуковский. – И начал, представьте, с конца. Торжество России, обретшей государя, – высшая точка драмы, можно сказать – ее апофеоз. Передаю вам мои стихи и горячо надеюсь, что музыкант превзойдет поэта в этом апофеозе… Не угодно ли и вам взглянуть, Владимир Федорович?
Одоевский посмотрел на Глинку – тот был в полном замешательстве.
– Представьте, Василий Андреевич, наш музыкант имеет собственный план поэмы.
– Признаюсь, еще не видывал музыкантов, которые выражали бы намерение вторгнуться на Парнас, – Жуковский с удивлением взглянул на Глинку.
– У меня сделаны только короткие наброски содержания, – объяснил Глинка, – поскольку музыка моя исходит от определенной идеи. Вот и счел я необходимым начать с общего плана, который объединит мысли музыканта и автора поэмы.
– Полезная мысль, – согласился Жуковский. – Никак нельзя отказать ей в новизне. С тем большей охотой готов ознакомиться с вашими предположениями. Думаю, что мы поймем друг друга. В сценах, предшествующих апофеозу, должны быть показаны страдания народа, лишенного царского попечения. Тогда и в подвиге Сусанина ощутим исторический смысл. Не так ли?
Глинка промолчал. Одоевский углубился в чтение стихов, приготовленных для эпилога оперы.
– Ну-те, – продолжал Жуковский, – рассмотрим завязку драмы: мысль о царе, о его спасении возвеличивает последнего из смердов.
– Но ведь русские люди, – отвечал Глинка, – повсеместно восставали против насильников. Шайка польских воителей, проникнув под Кострому, встретила тот же прием, что и всякая другая. В детстве моем у нас на Смоленщине прославился крестьянин, который в точности повторил подвиг Сусанина.
Одоевский оторвался от чтения стихов.
– Избрание на царство Михаила Романова, – сказал он, – способствовало укреплению русского государства в то тяжелое время. Но зачем же лишать народ святой любви к отечеству и способности жертвовать за него жизнью?
Жуковский слушал с обычным добродушием. Только клубы табачного дыма собрались вокруг него непроницаемым облаком.
– Не буду спорить, – сказал он после долгого молчания. – Не хочу растекаться мыслию по древу. Напомню, однако, любезный Владимир Федорович, что история оставила нам документы, не вызывающие сомнения. Теперь, когда, по повелению государя императора, проведены тщательные разыскания в архивах…
Поэт подошел к своему бюро, достал какие-то бумаги и подал их Одоевскому.
– Если не затрудню моей просьбой, то попрошу прочитать нам вслух выписку из подлинной грамоты Михаила Романова.
– «Божьей милостью мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович, всея России самодержец, – читал Одоевский, – по нашему царскому милосердию, а по совету и прошению матери нашея, государыни великие старицы иноки Марфы Иоанновны, пожаловали есть мы костромского уезда нашего села Домнина крестьянина Богдашка Сабинина за службу к нам и за кровь, и за терпение тестя его Ивана Сусанина. Как мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея России, в прошлом во году были на Костроме, и в те поры приходили в Костромской уезд польские и литовские люди и тестя его, Богдашкова, Ивана Сусанина в те поры изымали и пытали великими непомерными пытками, а он Иван, ведая про нас, великого государя, где мы были, терпя от тех польских и литовских людей непомерные пытки, про нас великого государя тем польским и литовским людям, где мы в те поры были не сказал, а польские и литовские люди замучили его до смерти…»
Одоевский дочитал до конца и положил выписку на стол.
– Великая трагедия произошла в костромских лесах, – сказал он, – и даже в официальном о ней повествовании виден несгибаемый дух русского человека.
– Но что же подвигло смерда на подвиг? – спросил Жуковский. – Указ повествует об этом со всей убедительностью.
– Но еще больше свидетельствует этот указ о том, – перебил Одоевский, – что московские дьяки были весьма искусны в красноречии, когда того требовали политические обстоятельства. Едва народившееся на Руси правительство Михаила Федоровича превыше всего заботилось об утверждении собственного престижа. С тех пор, как спасительный скептицизм позволил нам многое увидеть по-новому в древних документах, мы не можем оторвать историю костромского крестьянина Ивана Сусанина от обстоятельств его времени. Позвольте привести, господа, хотя бы такой случай. Неподалеку от Москвы есть село Вишенки, где и доныне живет предание о безвестном собрате Ивана Сусанина, который в те же времена завел в лесные дебри и тем погубил польский отряд. Мне привелось читать об этом в любопытных записках участника похода на Русь, некоего пана Маскевича. Кстати сказать, история в Вишенках случилась до избрания на царство Михаила Федоровича Романова. Стало быть, народ умел защищать родину и в самые смутные времена безвластья, а вернее – при черной измене отечеству со стороны тех бояр, которые смели именовать себя русской властью. А сколько таких же деяний, как в Домнине или в Вишенках, свершилось в то время на Руси?
Ознакомительная версия.