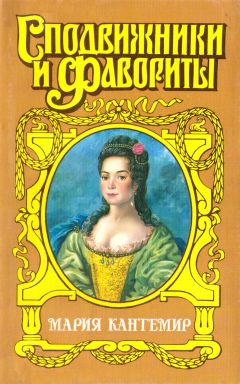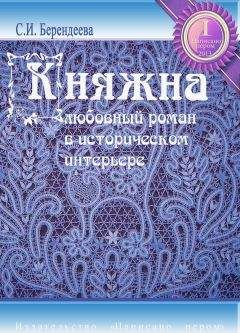— Повезу всех своих болящих в Дмитровку — это по дороге, имение там большое, благоустроенное и климат мягче, скорее там поправятся, — печально сказала она.
Она сразу почувствовала, что прежний пыл Петра исчез, что она больше не возбуждает его, и ей было грустно и одиноко...
Царский поезд поехал дальше — грузиться на суда, которые тянули бечевой лошади и на которых изо всех сил гребли против течения восемнадцать пар гребцов, сменявшихся каждые три часа.
Все заботы о гарнизонах, стоящих в Тарках и Дербенте, оставил Пётр на астраханского губернатора Волынского, а сам помчался в Москву праздновать победу, которая досталась так легко...
Сначала суда шли бечевой и греблей, потом пришлось выгружаться и пересаживаться на колеса, а уж дальше путь пошёл санный.
И чем ближе к Москве, тем холоднее было, свирепствовали первые метели, облетевшие деревья чернели оголёнными сучьями на снегу, а Пётр радовался, что наконец-то кончилась изнурительная жара, что белые мухи носятся в воздухе, и ему приятна была эта гонка по российскому бездорожью, а затем скольжение по установившемуся санному пути.
Едва приехав в Москву, царь приказал поставить большую триумфальную арку, где изображён был Дербент. Надпись под ним гласила велеречиво и сложно, как всё, что касалось хоть какой-то победы Петра:
«Сию крепость соорудил сильный или храбрый, но владеет ею сильнейший или храбрейший».
Под сильным и храбрым подразумевал Пётр основателя Дербента Александра Македонского, а под сильнейшим и храбрейшим — ни много ни мало — себя.
Волынский не подвёл царя: уже в следующем году Россия завладела Сальянами, Рештом и Баку.
И подписан был договор с Персией. Она уступала России всё западное и южное побережье Каспийского моря. А Россия обязалась «чинить Персии вспоможение» в её борьбе с неприятелями. Имелась в виду, конечно, Турция, зарившаяся на побережья Каспийского моря. Но Турции пришлось отвернуться от лакомого куска, — русский царь опередил Османскую империю.
Как грустно было Марии, когда Пётр выходил из губернаторского дома в Астрахани! Она с трудом удерживала слёзы.
Царь только подошёл к постели князя, попрощался с ним и грубовато-шутливо произнёс:
— Когда нужен, тут же занемог, давай поправляйся живей, немало ещё дел впереди.
А для мечущейся в лихорадке Анастасии он даже не нашёл доброго слова, лишь сказал Марии:
— Береги их...
Не любил царь больных и стонущих, не было в его сердце жалости и сочувствия.
И Мария впервые серьёзно задумалась: кто же он, её великий кумир, — беспощадный тиран и самодур или тот нежный и чувствительный возлюбленный, которого помнила она в первые годы их связи? И что будет с ней, за которой теперь всегда будет тащиться шлейф сплетен — царская любовница, не давшая ему даже дитяти?
Она плакала и грустно собиралась в дорогу — отныне она была единственной надеждой и опорой отцу, ещё не старому, но уже безнадёжно больному, мачехе, едва-едва отходящей от неудачных родов, да и всей их семье: братьям — Константину и Матвею, Сергею, или Шербану по-молдавски, и малолетнему Антиоху, всё ещё остававшимся в Москве.
Кантемир посчитал неудобным тащить за собой в такую даль всю семью, да и дети должны были учиться. Они уже числились солдатами Преображенского полка, и как только выйдут из учения дома, так примутся за полковую науку.
Она одна их опора и надежда, лишь она будет заботиться о них всю свою жизнь.
И всё-таки иногда Мария вела себя как неразумная девчонка: плашмя бросалась на постель и принималась лить слёзы — разлука на четыре месяца охладила сердце её идола, и это было так горько и больно, что руки её опускались и она часто была не в состоянии распорядиться всем укладом трудной дороги.
Но Мария понимала, что должна повременить хотя бы некоторое время — пусть чуть оправится мачеха, пусть хоть немного придёт в себя отец.
И она тянула, сколько было возможно.
Но всё напоминало ей о Петре: и этот тихий сад, где она провела столько счастливых часов в мечтах о сыне царя, и эти тенистые аллеи, деревья в которых уже начали облетать и устилать листьями посыпанные кирпичом дорожки.
Знала Мария: мечты её разлетелись, и не будет больше того счастья и той радости, что доставлял ей один лишь взгляд Петра, его улыбка и такие смешные усики.
Сердце её было разбито. Но она собирала осколки и не позволяла себе расслабляться, чувствуя свою ответственность за жизнь отца и мачехи, за жизнь всей её многочисленной семьи, и тогда сжимала в кулак своё сердце и говорила себе: «Надо жить...»
Княжна бесстрашно и бестрепетно перенесла всё тяжёлое путешествие из Астрахани в Дмитровку — проверяла, все ли её распоряжения по ночлегам выполнены слугами, есть ли сено и овёс у лошадей, хороши ли постели для больных отца и мачехи, хватит ли хоть чаю для болящих, а уж о провизии она позаботилась заранее...
И едва добрались они до старинного княжеского дома в Дмитровке, как она не раздеваясь прошлась по всем комнатам, выругала прислугу за то, что печи недостаточно хорошо протоплены, в комнатах дымно и угарно, и обленившаяся дворня поняла, что приехала настоящая хозяйка, и принялась суетиться и чистить всё, что только можно...
Мария устроила отца и мачеху, приказала принести им всё, что необходимо с дороги, и лишь тогда подумала о себе. Бросившись на постель лицом в подушку, зарыдала так, что дворня недоумённо прислушивалась: что это с барышней, почему раздаются из её комнаты такие звуки...
И опять напомнила себе Мария, что не след ей распускаться, что она дочь князя, хозяйка и опора, поднялась с красными от слёз глазами, наскоро вытерла их и пошла вниз, чтобы распорядиться обо всём на завтрашний день...
Теперь уже её управитель и не думал обращаться к самому князю. Законом для него стало слово княжны.
И Мария вела себя соответственно: была в меру строга, в меру хозяйственна, в меру требовательна и никогда не вступала с прислугой в глупую и праздную болтовню, как делала это её выздоровевшая мачеха.
А князь тихо угасал. Это было видно по его жёлтому, испещрённому коричневыми пятнами лицу, по его слабой руке, едва поднимавшейся, чтобы написать хоть несколько слов в своей рукописи, по его бессильной и беспомощной улыбке, с которой обращался он к Марии.
— Ты одна в нашей семье, кто держит порядок и за всем следит, — не раз говорил ей отец.
Он стал так слаб, что к весне его уже выносили в сад в кресле, помещали под тенистым развесистым абрикосом и внимательно присматривались к нему: захочет ли ещё он чубук с табаком или, может, крепчайшего кофе — только это и могло бы дать хоть какой-то намёк на выздоровление.
Князь покорно и исправно пил травяные отвары, которые готовил Поликала, крепкие куриные бульоны, за которыми следила сама Мария, выпивал и глоток чаю. Но чубук и кофе были отставлены — словно бы выпил князь свою жизненную норму кофе, словно бы выкурил все полагающееся ему количество трубок.
Весной он тихо угас, сидя в своём кресле под тенистым абрикосом, уже усеянным пока ещё некрупными зелёными плодами.
И опять Мария понимала, что ей одной предстоит решить, где хоронить отца, потому что Анастасии было мало дела до того, где будет погребён муж.
А Мария всегда помнила, что отец просил похоронить его рядом с первой женой — Кассандрой — в Николо-Греческом монастыре в Москве. И опять заботилась она о том, чтобы украсить погребальные дроги, чтобы обить гроб красным и белым атласом, одеть отца так, как любил он при жизни.
И сопровождала печальный поезд в Москву опять она одна: Анастасия поехала отдельно, ссылаясь на то, что не может видеть покойников.
Государь император Пётр Первый, Великий, редко гляделся в зеркало — очень уж неприятно было ему видеть мелко и беспрестанно подрагивающую голову, пробегающие по мускулам лица судороги, искажавшие облик. И также редко испытывал он чувство раскаяния, словно бы не заглядывал к себе в душу, не искал в ней утешения.
Однако теперь, после Персидского похода, странное чувство волновало его, когда он присматривался к своей солдатской жёнке, Екатерине, всюду сопровождавшей его, — своей преданной жене.
Как будто похоронил он в глубине души надежды на чистую и светлую любовь Марии, веру обрести в новом браке все свои молодые мечты и устремления. Всё, не дала она ему законного сына, значит, не захотел Бог, значит, не судьба, и достались ему всего лишь будничное законное супружество с Екатериной да чаяния выгодно и политично пристроить дочерей.
Значит, Марию надо забыть, не думать о ней, коль скоро под рукой у него верная, любящая его всю жизнь, всегда весёлая, всё с ним разделявшая жена, Екатерина.
И, словно бы извиняясь перед ней за последний свой роман, за последнюю свою связь с прелестной молдавской княжной, будто бы в покаяние Пётр решил короновать Екатерину, да так, чтобы затряслись небеса от невиданной торжественности этого обряда.