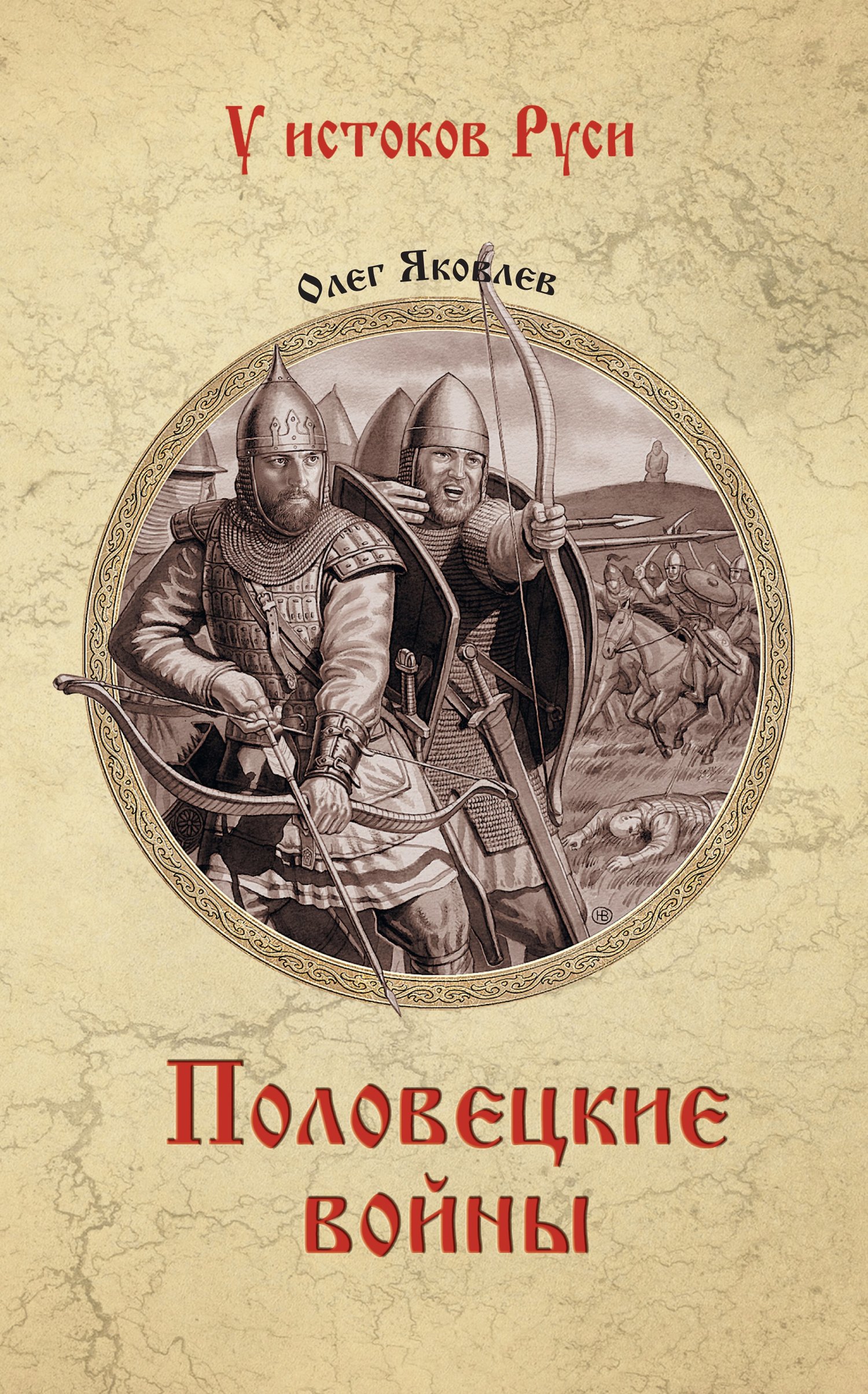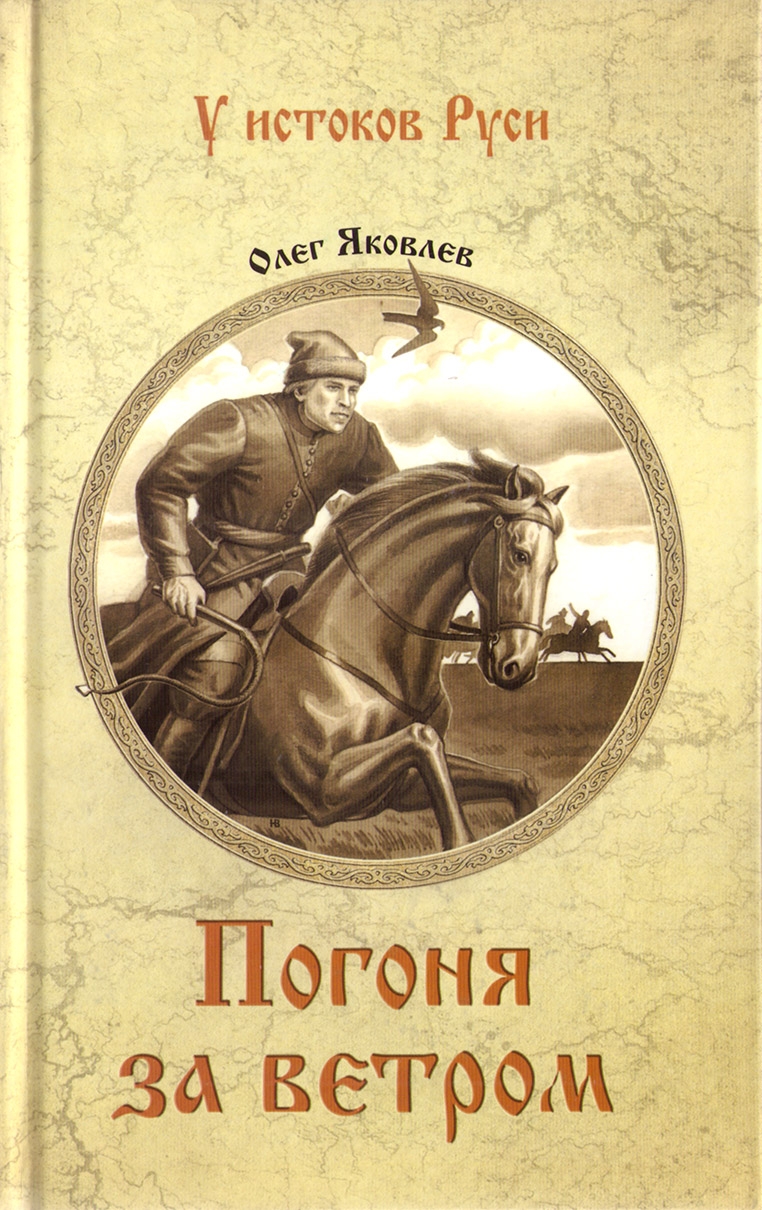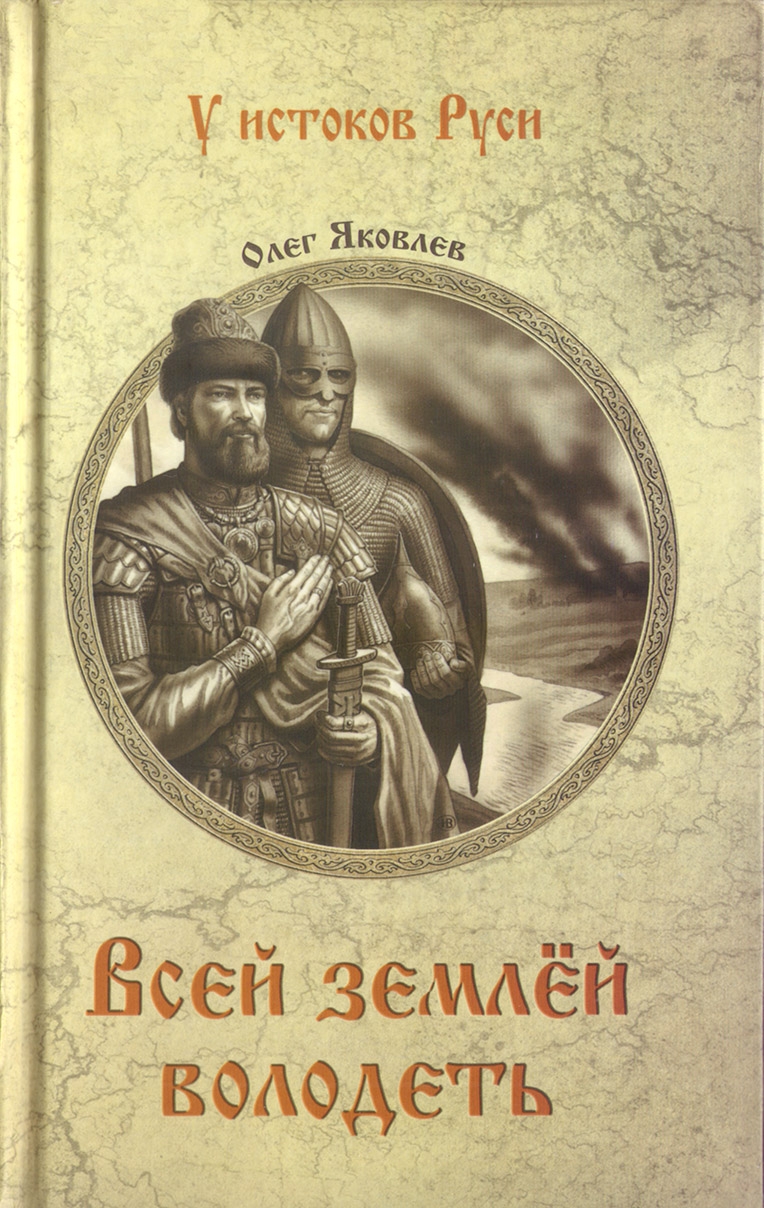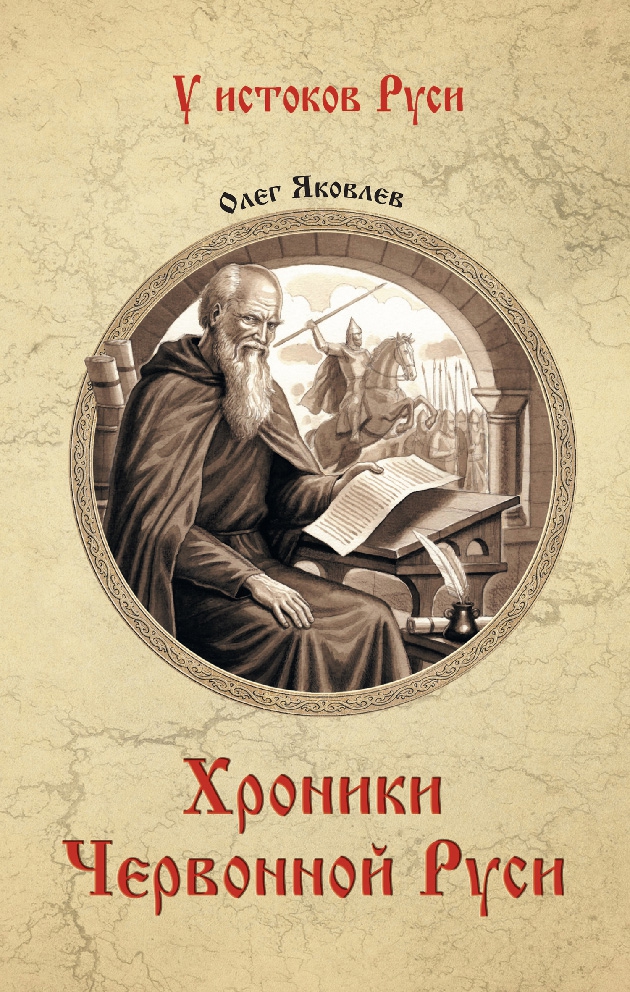дубравы, впереди затемнели валы и стены стольного града.
Путники подхлестнули коней и, вздымая тучи пыли над шляхом, подлетели к окольному городскому тыну.
Глава 68. В осеннем багрянце
На пристани-кораблище с утра толпился народ. Ласково золотилась под копьями-лучами речная вода, сияли разноцветьем одежды горожан, где-то неподалёку в кузне бухал молот. Немолодая женщина в тёмном широком плаще, надетом поверх алого платна [306], перехваченного на поясе узеньким кожаным ремешком с серебряной пряжкой, в суконной шапочке с меховой опушкой, из-под которой виднелся белый с золотистыми узорами плат, неся на левой руке корзину, неторопливо подымалась к городским воротам. Красивое лицо её с подрумяненными щёчками ещё дышало свежестью, хотя возле глаз и в уголках алого чувственного рта лежали глубокие морщины, а из-под плата ниспадала на чело густая прядь серебристых волос.
Была она словно тонкая осинка в багряном осеннем наряде – молодость давно ушла, но ещё радуется солнцу дерево, пышет, разливается, расплескивается красотой.
Встречь этой высокой женщине, ведя в поводу коня, сходил к пристани гречин Авраамка. Серебряная гривна поблескивала у него на шее, долгий кафтан малинового цвета был сажен жемчугами, на поясе в деревянных, обшитых зелёным сафьяном ножнах висела кривая половецкая сабля, голову покрывала полинялая лисья шапка.
Уже было прошёл он мимо женщины, но вдруг круто остановился, окинул её взглядом подслеповатых от неустанного чтения при лучине глаз и изумлённо пробормотал:
– Ты, Роксана?
Женщина вздрогнула, обернулась, лицо её вспыхнуло багрянцем, лучистые серые с голубинкой глаза зажглись переливчатым северным блеском.
– Авраамка! – прошептала она взволнованно. – Вот и свиделись.
– Свиделись, – как эхо, повторил гречин.
Он поворотил коня и, держа его левой рукой за повод, пошёл с ней рядом, бледный, прямой, ошарашенный внезапностью встречи. Роксана казалась ему в эти мгновения сказочным видением, вырвавшимся откуда-то из бездн прошлого.
– Не думал тебя найти. В живых увидеть не чаял, – говорил он тихо, дрожащим от волнения голосом.
– А я живучая, Авраамка! – Женщина вдруг звонко рассмеялась. – Никакой бедой не сломишь!
– Говорила, в монастырь будто постричься хотела.
– Хотела, и постриглась уж было, – грустно улыбнулась Роксана. – Да явился удатный молодец, сажень косая в плечах, красавец. Усадил на конь в седло да умчал от монахинь в чисто поле. Ох и сладко с им было! Любовались при луне, на травушке. А после, – тяжёлый вздох сорвался с уст женщины, – на поганых нарвались мы у брода Зарубского. Посекли ладу мово, сама ж я едва отбилась, ускакала. Коню спасибо, вынес, умчал от погони лютой. Сколько слёз горьких пролила тогда! Часто тя вспоминала, Авраамка, всё гадала: жив ты аль сгинул где?
– А я, Роксанушка, ныне советник у короля Коломана, не какой-нибудь там червь книжный, – не без гордости сказал Авраамка.
– Помнишь, значит, толковню нашу? – Слабая лёгкая улыбка снова тронула чуть припухлые уста Роксаны.
– Не забудешь такое, лада моя. Камею [307] с орлом до сей поры на груди ношу, рядом с крестом. Ну да что обо мне говорить! Один как перст на всём белом свете. Ты-то живёшь ныне где, Роксанушка? В Киеве?
– В Киеве, на том самом дворе, где видались в прошлый раз с тобою. Ну и в Переяславле тож дом имею, от дядьки в наследство достался. Дочь, Фотинью, давно уж за боярского сына выдала. Уехала Фотинья в Плесков [308], тамо ныне обретается. С той поры вот, почитай, и живу одна. Уж и не поминает никто, что княгинею была. Вот за рыбой на пристань ходила. Лучшую отбирала, холопкам не доверила. Хошь, пойдём ко мне, угощенье щедрое сготовлю.
Авраамка, вдруг вспомнив Ольгу и её домовитость, решительно замотал головой.
– Нет, милая. Уж прости, не пойду. Лучше бы ты ко мне на посольский двор.
– А что, и приду, – лукаво засмеялась Роксана. – Я ведь ничего ещё, правда, гречин? Не одному тебе голову вскружу! – Она прошлась перед ним, покачивая бёдрами. – А ты тамо как поживаешь, в уграх-то? Без пригляду женского, сразу видать. Шапка-то вон экая. Тож мне, посол выискался! – Она хихикнула. – Сором один токмо.
Авраамка смутился, стал оглядываться по сторонам – не заметил ли кто его промашки. В самом деле, верно, не ту шапку впопыхах напялил на голову. А Роксана подсмеивалась, вышучивала его, говорила лукаво:
– Не гляди, не гляди, все узрели, все смеются над послом крулевским!
Откуда и взялось столько юного задора у этой немолодой уже, пережившей тяжкие потери и несчастья женщины?!
– Тоже, нашла веселье, – кусая губы, ворчал раздосадованный Авраамка.
– Топерича я от тя не отстану, в Угрию с тобою отъеду, ко княжне Предславе в свиту попрошусь. Тогда-то, в прежнюю нашу встречу, иные помыслы были. – Она вмиг отринула свою необычную весёлость, посерьёзнела, хитроватые искорки потухли в серых очах. – И ты кознодеем препакостным мнился. А после всё думала, думала. Ох и тяжко горлицей на сухом древе вековать! Одна я, и ты один-одинёшенек. Знаем мы друг дружку, жалеем. И довольно б того.
– Роксанушка, любая моя, схлынуло давно всё, истаяло, в душе одна пустота, мрак. – Авраамка с жалостью смотрел на Роксану и словно не узнавал её. Неужели это та недоступная и близкая, гневная и ласковая женщина, о которой он когда-то страстно мечтал?! Будто и не было долгих лет; всё такая же стройная, красивая, немного лукавая, полная обаяния, стоит она перед ним. И содрогается, изнывает от былой тоски душа Авраамки.
А она спорит с ним, упрямо и настойчиво вопрошает, в нетерпении стуча ногой в чёрном выступке [309]:
– Отчего ж истаяло? Камею ж носишь, не потерял, не позабыл? И на пристани сейчас первый приметил, узнал.
– Но путь мой далёк, многотруден, Роксанушка. Угрия – она ведь не за тем вон углом.
– А я будто не ведаю. – Снова хитроватые огоньки глаз обжигают Авраамку. – Да коль хошь ведать, у мя и кольчуга есть, и броня дощатая, и шелом булатный, и сабля вострая. Никоего ворога не боюсь.
– Упрямица ты великая, – выдохнул гречин. – Что же, поедем так поедем. Одна ты у меня на всю жизнь, Роксанушка, лада милая.
У