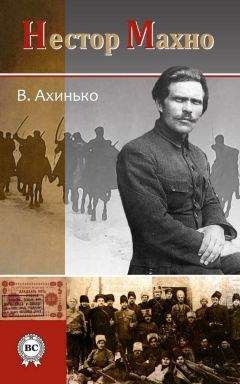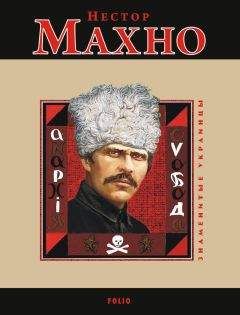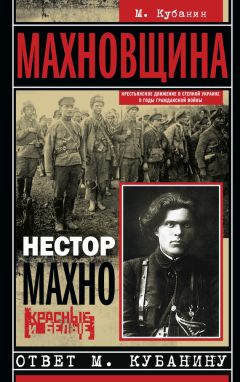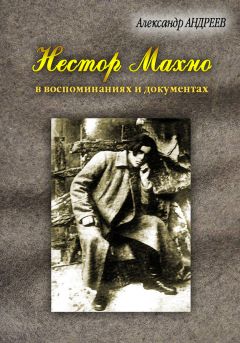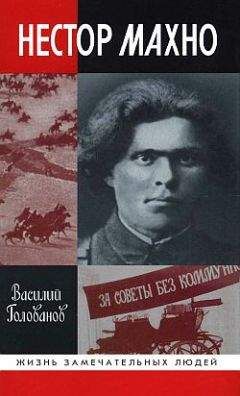— Напрямую. Она их последнюю Сечь разорила, — историк лукаво взглянул на Батьку и добавил: — А я храню ее памятник. Хотя знаю, что все, к кому он попадал, добром не кончили.
— Глупо так рисковать, — решил Махно.
— А вы, Нестор Иванович, давно были на кладбище?
— Пока, слава Богу, не носили меня туда.
— Простите, я имел в виду, что там все примиренные. А скульптура не рядовая, принадлежала поэту Пушкину.
— Который восславил свободу? Наш мужик, как и Шевченко. А где она? — заинтересовался командующий армией.
Яворницкий замялся. Дело в том, что памятник стоял на Соборной площади и революционеры свалили его. Директор музея нанял грузчиков, привез статую сюда и закопал. При всех этих передрягах у Екатерины II было отбито три пальца. Один из них лежал сейчас на столе, рядом со стаканом, щкоторого пил Махно.
— Покоится в земле, — отвечал историк. — Люди же не подозревают о ее роковом характере. Я и спрятал от греха подальше.
— Как же она, бронзовая курва, прискакала сюда от Пушкина? — не понял гость.
— После смерти поэта ее продали на переплавку. На заводе увидел наш земляк и сообщил своим. Горожане купили статую за 7 ООО рублей серебром и доставили домой. Вот и вся сказка.
— Значит, нам тоже надо замириться с русскими мужиками? — вдруг спросил Махно. Ради этого он и приехал.
— Какими? — Яворницкий снял очки, протирал глаза.
— Ну, что большевики ведут на нашу землю.
— А белые?
— Те уже обречены.
Дмитрий Иванович еще потеребил свой довольно большой нос. Вспомнились пушкинские слова: «их надобно задушить… дело семейственное».
— С мужиками что же делить? — сказал ученый. Он, более чем кто-либо на Украине и в России, понимал, что махновская армия — это последний яростный всплеск казацкой вольницы, проснувшейся, как и на Дону, Кубани, после векового забвения. Ее душили, выкорчевывали саму память о тех славных временах, а она жила в поколениях и, смутная, уродливая, озлобленная, бурлит теперь по южным степям. Яворницкий это понимал, но… не мог принять. Его коробил разгул страстей черни. Говорили, какой-то сорвиголова из Одессы, Мишка Япончик или Левчик, заправляет контрразведкой в Никополе, тут бьют стекла в храмах. Разве это воля, о которой мечтали славные предки? А тут еще этот гость со своими сомнениями.
— Верно. Нечего нам делить с русскими мужиками, — согласился Махно. — С вождями их как быть? Ведь смертные враги свободы! Гребут жар под нашу задницу руками голодных рабочих и крестьян севера. Что делать? Подскажите!
Такая мрачная безнадежность послышалась в голосе Батьки, что Яворницкий опустил седую голову и вздохнул.
— Надо же было уродиться лыцарству на голой земле, — проговорил он наконец. — Ни гор у нас нет, ни леса. Раньше плавни Великого Луга спасали да быстрые ноги скакунов, да распря Москвы с турками. Теперь… Кто вам поможет?
— Опустить руки? — не поверил Махно. — Мы зачем кашу заварили? Послушайте, Дмитрий Иванович, вы — совесть Украины. Вот вам исповедь. Наша армия дала свободу трудящимся и охраняет их. Живите, как только хотите. Мы — не власть и не стремимся к ней. Ни командир повстанцев, ни рядовой никогда не получали ни копейки — служат революции по призванию. Да, мы конфисковали вещи в городском ломбарде. Но бедноте по квитанциям всё возвратили, остальное предложили медикам и больным. Из шуб пошили форменные шапки. Вот такие, — он показал свою папаху. — Четыре, миллиона рублей отдали сиротам в приюты, семьям погибших, а на тысячу, вы же знаете, можно месяц жить.
Тут бы Дмитрию Ивановичу в самый раз напомнить, что он тоже давно не видел жалования, к тому же ограблен. Но ученый промолчал. Батько продолжал:
— Говорим, кричим рабочим: «Берите на здоровье заводы, фабрики, мастерские! Создавайте экономический совет!» Но почему они даром не берут то, о чем предки веками мечтали? — с болью, почти отчаянием спрашивал Махно.
— Наверно, замордованы, — мягко и тихо отвечал Яворницкий. — По моим наблюдениям, пока лишь нужда, корысть, боль, тщеславие двигают прогресс. Вы же их не поощряете?
Дмитрий Иванович поразился, с какой иронией это прозвучало. Да, уж очень краснобаистый атаман. Прямо благодетель. Послушаешь, так вроде бы рай на улице.
— Перед вами, Нестор Иванович, лежит бронзовый палец, указующий перст Екатерины II. Видите? Она его не опускала. Его отбили. А сама в земле. Потому я рассуждаю просто: не получается большое — сделай хоть маленькое добро. Дайте мне как директору музея охранную записку, чтоб никто ничего не трогал.
— Хорошо. Получите в моей приемной.
Махно поднялся и, насупившись, пошел к выходу. Не такого совета он ожидал.
— А в чем ваши разногласия с Лениным, — догоняя гостя, попросил уточнить Яворницкий. Его словно бес подмывал.
— Он устанавливает диктатуру своей партии, — сказал Батько на ходу. — Новых дворян плодит — комиссародержавие…
— Мужику-то что до этого? — перебил историк. — Ему дай землю и мир. А кто правит — дело десятое.
— А чрезвычайки, комбеды, а трибуналы? — резко возразил Махно, останавливаясь и глядя удивленно на Дмитрия Ивановича.
Тот давно уже вот так безудержно не закусывал удила. Доконали тревоги последних лет, несчастья, что обрушились на Украину и на него лично. Да и настырный атаман бередил душу.
— Но и у вас же контрразведка, говорят, коменданты, — брякнул историк.
Подобного оборота беседы Батько не ожидал и нервно мял в руках папаху. Директор музея еще прибавил:
— С белыми мужик бился против помещиков. А с красными чего ради?
— Они три шкуры сдерут! — проронил Махно с плохо скрытым раздражением.
— Вы не сердитесь, — попросил Дмитрий Иванович. — Ленина я не защищаю и всей душой за свободу. Но кто же вам правду выложит? Сдерут, говорите? А мужик, и русский, и украинский, — дурак затасканный, верит лишь оку и уху. Заглядывать вперед его палкой отучили. Мне больно это признать, даже стыдно. Поверьте! Снимут с земляков шкуру — тогда и взвоют, вот тогда и…
— Поздно же будет! — чуть не вскричал Батько. — Я хочу им добра!
Историк мог бы привести тысячу доводов, что Украину спасет только единство всех сил, как в Польше, Финляндии, что добро сегодня — это согласие с Петлюрой, другими атаманами, единение братское. Но в пылу спора сказал он другое:
— А Хмельницкий что — враг был своему народу, когда заключал союз с Россией? Бронзовая бабушка, где хотела стоять? А Пушкин что желал…
Не слушая дальше и не прощаясь, Махно покинул музей. Спешил на большое совещание командиров. Историк же взял отбитый бронзовый палец и бережно спрятал в шкаф.
После совещания подошел Михаил Полонский.
— Сегодня именины моей жены. Не откажите, Батько, выпить чарку.
Они одного роста, только Михаил поплотнее, не сутулится, лицо, усы тонкие, форсистые.
— Полночь. Уже и коты спят. Когда пировать? — спросил Махно и опустил глаза, боясь выдать вспыхнувшую ненависть. Подозрение контрразведки точно подтверждалось, и нервы пошаливали. Как еще не обругал Яворницкого? Тот т1?же хорош гусь: «Бронзовая бабушка хотела!» Да мало ли что она хотела, стерва!
— Делу время, потехе час, — продолжал Михаил, удивленный словами Батьки. Раньше он не отказывался от чарки. Что-то заподозрил, волчина? — Приходите, пожалуйста. Жена недавно родила, обидится, если не уважить. Заодно младенца обмоем.
Затаив дыхание, Махно буркнул:
— Будем, — и отвернулся, заговорил с другими командирами. Полонский отправился домой.
Все эти месяцы, пока воевал в Повстанческой армии, он помнил, что не сам прибился к анархистам. Привел к ним… эх, море по колено!., целую бригаду кавалеристов и пехоты. Мало того. Большевик по убеждениям еще со времен службы на крейсере «Иоанн Златоуст», зачем-то, ну в порыве благодарности, что ли, принародно взял в руки проклятое черное знамя! Как ни крути, а стал изменником. Пусть в безвыходном положении, когда со всех сторон лезли деникинцы, французы, петлюровцы, всякие банды. Да кто же станет вникать, сочувствовать? Вон Якир вывел-таки красноармейцев из гибельного мешка. Полонский же, гад, предал! И скоро придется держать ответ. Белые бегут на юг. Неделя-другая, и неумолимые друзья-комиссары появятся в Екатеринославе. Спасти могло только устранение Батьки. Сегодня!
Тогда-то Михаил и кинет свой последний козырь, который хранил на самый крайний случай. Он достал его, аккуратно расправил и прочитал:
МАНДАТ
Дан сей тов. Полонскому в том, что он назначен парткомом для формирования отряда особого назначения по борьбе с бандитами (Махновщины). По прибытию т. Полонского в часть просим его не задерживать как отчетностью, так и другими делами.
Секретарь парткома Никонов. 23.111.1919 г.Весной эта бумага не понадобилась. Но дождется своего часа. Михаил ведь думал не только о себе. У него молодая жена-актриса, дочь родилась. Ради них он самовольно прибыл сюда из Никополя, за что схлопотал строгий выговор штаба армии. Если ЧК расстреляет его как предателя — что ждет близких? Мытарства?