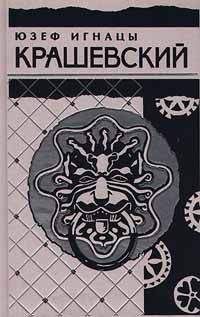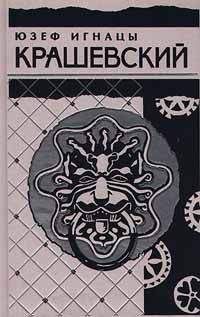— Что это значит? Ужели какое-нибудь несчастье постигло нас в Шуре?
— Нет, милый брат, нет! — прошептала сестра. — Но Поля, наша бедная Поля, умерла…
Анна взглянула на брата. Дрожа всем телом, Юлиан искал, на что бы опереться.
— О, я убил ее! — воскликнул он, забывая окружающих. — Я убил ее!
Эти странные и с первого раза непонятные для сестры слова глубоко огорчили президента. Он схватил племянника за руки и повелительно потащил его за собой, пригласив Альберта помочь ему. Так хорошо скрываемая до сих пор тайна внезапно обнаружилась. К счастью, только сестра, дядя и один посторонний человек были свидетелями восклицания забывшегося Юлиана.
Президент, чувствуя, что вина смерти сироты упала и на его совесть и, жалея племянника, ни на шаг не отходил от него. Но отчаяние Юлиана, выраженное с такой силой, что он даже забыл о посторонних, было, однако, непрочно: легко можно было предвидеть, что, вспыхнув на короткое время, оно погаснет. На другой день вместе с Альбертом его отправили к соседям на охоту, с визитами, и он не отговаривался. Опасаясь, чтобы какие-нибудь вести не дошли до Зени, его через неделю свезли в Ситково. Впрочем, президент был там еще раньше и печаль бедного племянника о сироте объяснил братской привязанностью. В добром, хоть слабом сердце молодого человека на самое короткое время отразилось глубокое впечатление, но в тот же день рана стала заживать, а спустя две или три недели уже не осталось и следов ее. В первые дни Юлиан плакал и вздыхал, ходил по саду и выказывал президенту свою скорбь и угрызения совести. Но холодный и прозаический дядя умел представить происшедшее в таком свете, что постепенно успокаивал племянника и обращал его внимание к Зени, вылечивая любовь любовью, если только можно было теперешнюю привязанность Юлиана назвать этим великим именем.
Совсем иначе страдал Юстин. Он уже не хотел возвратиться в Горы и опять поселился в Шуре. Атаназий лечил его печаль верой, молитвой и благочестивыми наставлениями, не принуждал молодого человека забыть прошедшее, а объяснял ему обязанности земной жизни и сладость союза, соединяющего нас с другим, лучшим миром. Старец не запрещал своему питомцу опять блуждать по лесам и ходить по деревням. Во время таких путешествий Юстин часто заходил на Горское кладбище и проводил там целые дни.
Спустя несколько времени молодой человек заметил, что жестокий удар судьбы открыл в нем новый источник мыслей и поэзии, печаль сделалась вдохновением: пройдя горнило испытания, он лучше понял свет и пламеннее воспевал его. Воспоминание о Поле стало для него первым сокровищем жизни. Юстин не позволил ничего тронуть в своем доме и все оставил в том виде, как покинула его покойница. Иногда он заходил туда, по несколько часов сидел в задумчивости перед немым ее фортепиано и блуждал глазами по разбросанным и покрытым пылью нотам, то приходил в темную комнатку, где она скончалась, и с грустью смотрел на кровать, покрытую ковром и обставленную засохшими цветами.
И он пережил свое несчастье! Милосердый Бог нередко в самом зародыше болезни уже посылает человеку спасительное лекарство. Так было и с Юстином: собственно печаль о подруге привязывала его к жизни. Поддубинец начал вести прежний образ жизни, ходил по деревням, прислушивался к голосу песен и любовался природой. Тень Поли везде сопутствовала ему и часто представлялась ему во сне — белая, чистая, улыбающаяся: она протягивала к нему руку из облаков и манила в свой мир. Только одного Юлиана он не мог видеть, и каждый раз как тот приезжал в Шуру, Юстин бежал в поле и леса, чтобы не встретиться с ним.
Таким образом, обманутые надежды и скорбь дополнили жизнь молодого поэта, а без них она не была бы полной: они открыли в его сердце новые источники, дали глазам новую силу, душе — могучую твердость… Изменили, укрепили и возвысили существо его. Свет нигде не представлялся Юстину так понятным, как на могиле жены, и поэт собственными руками сажал на ней цветы, деревья и с материнской заботливостью лелеял их. Нередко он путешествовал на кладбище вместе с Атаназием, тогда старец бросал свою палку и книгу и вместе с питомцем окапывал могилу, пересаживал цветы, поливал их и забавлялся этим, как ребенок.
* * *
Карлину опять улыбались надежды. Альберт был уже нареченным женихом Анны, а Юлиан, занятый своей женитьбой, экипажем и лошадьми, совершенно забыл о Поле. Президент лечил его от неопасной, впрочем, печали одними шутливыми насмешками, утверждая, что как холодная вода излечивает почти все болезни тела, так насмешка полезна против всякого огорчения. И, надо отдать справедливость методе президента, этот способ лечения очень удался ему в отношении к племяннику, потому что печаль Юлиана в скором времени обратилась сперва в тоску, потом в апатию, наконец в полулыбки и легкомысленное веселье. Такой перемене молодого человека содействовали еще приготовления к свадьбе, счастливо обратившие его внимание к пустым предметам. Надо было со вкусом и аристократически принять в Карлин панну Гиреевич, так как, переходя сюда из Ситковского музеума, она могла быть слишком взыскательна. Итак, для нее приготовили особую половину со множеством редкостей, приобрели фортепиано Плейеля, ноты, орган-гармонику. Юлиан исключительно занимался выбором цветов ливреи, экипажей, лошадей, мебели, закупленной в Варшаве, устройством и украшением гербов и был сильно озабочен до тех пор, пока все это не было признано удовлетворительным.
Нечего и говорить, что свадьбу праздновали великолепнейшим образом. Несмотря на свою скупость, граф Гиреевич усиливался во всем соблюсти приличный блеск, и сам хвалил себя за это, утверждая вслух, что в околотке никогда не видали ничего подобного. Здесь не было недостатка ни в фейерверке с вензелями и гербами новобрачных, ни во множестве других сюрпризов подозрительного вкуса, но на вид великолепных. Зени, услышав что-то насчет Поли, несколько времени дулась на будущего супруга, но как последний ловко оправдался клеветой злобного света, то панна великодушно простила ему эту вину и довольно весело прыгнула на персидский ковер перед алтарем и сошла с него уже пани Карлинской.
Старик Гиреевич плакал, как дитя, и утешал жену, заливавшуюся горькими слезами о том, что Зени еще так молода! Впрочем, несмотря на неописуемую горесть, оба они, по неотступной просьбе гостей, в тот же вечер играли на скрипке и гармонии и вызвали множество рукоплесканий. Гиреевич исполнил дуэт с виолончелью, а графиня сыграла две песни из Оберона. Одним словом, исключая маловажных беспорядков, неизбежных при больших торжествах, свадебный пир с китайской разноцветной иллюминацией и бенгальскими огнями удался как нельзя лучше, только фейерверк запачкал несколько человек из второстепенных зрителей.
На другой день, во время великолепного бала в Ситкове, к которому приглашено было с лишком сто фамилий, Зени явилась в старинных драгоценных камнях Карлинского дома, подаренных ей мужем перед свадебным ужином. Старик Гиреевич, страстный охотник хвастаться, поочередно рассказывал гостям на ухо, что этот убор в свое время стоил с лишком десять тысяч дукатов, а огромный смарагд на ожерелье подарен был одним султаном Карлинскому, бывшему послом в Стамбуле и т. п.
Эти два прекрасные бала отравлены были величайшим несчастьем: танцоры уронили полку с этрусскими сосудами, и все они до одного разбились вместе со стоявшей наверху драгоценной японской вазой. Старик Гиреевич так глубоко почувствовал это несчастье, что на следующий день ничего не мог взять в рот. Убыток, по словам его, простирался на триста девяносто пять дукатов.
Теперь, почтенные читатели, вы имеете право еще опросить меня: как зажил Юлиан со своей супругой? Это нетрудно понять. Они зажили в полном смысле великолепно и прилично. К счастью, избалованная Зени не имела никаких страстных желаний: она при каждом удобном случае хвасталась своими музыкальными способностями, искала похвал, потому что привыкла к ним, любила салон и общество, требовала вояжей, и больше ничего не нужно было ей. Но как Юлиан, в свою очередь, был добрым и снисходительным существом, никогда не противоречил жене, а недостаток глубокой привязанности заменял чрезвычайной вежливостью и услужливостью, то они жили довольно счастливо и согласно. Правда, не дальше как через два года после женитьбы, Карлинский часто, под предлогом хозяйственных распоряжений, отлучался из замка и проживал в одном доме в местечке, где, как говорили, жила его любовница, прежняя горничная жены его, веселая, улыбающаяся, черноглазая и чернобровая девушка, но об этом знал, может быть, один президент и не считал преступлением того, что племянник пошел по его следам. Через несколько времени Фанну поместили в домике близ замка, но она вскоре вышла замуж за актера, а Юлиан, погрустив короткое время, нашел вместо нее другую.