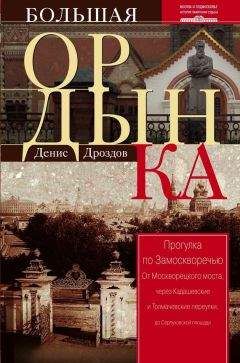– Вмешательство в компетенцию канцлера и в сношениях с иностранными державами.
– Вариант обвинения маркиза де ла Шетарди. Такой поворот возможен всегда, тем более граф имел неосторожность продолжать получать пенсию от французского правительства.
– А французское правительство – неосторожность выплачивать эти суммы в виде постоянной пенсии. Дорогие подарки выполнили бы ту же роль, не оставляя столь заметных следов.
– Несомненно. Но Лесток любил наличные деньги и имел бы трудности с перепродажей подарков.
– Это не основание, чтобы рисковать своей головой так, как рисковал граф. Где находится Лесток?
– Пока в Петропавловской крепости, и, по мнению резидента, пробудет там долго. Бестужев сам включен в ход следствия и слишком заинтересован, чтобы оно тянулось по возможности дольше.
– Изоляция ото всего окружения и Франции.
– А главным образом полная невозможность организовать какое бы то ни было вмешательство со стороны.
– Вмешательство со стороны в отношении человека, обвиненного в государственной измене и шпионаже? Кто бы пошел на подобное безрассудство! К тому же Бестужев до конца будет стоять на страже своей жертвы. Выпущенный Лесток был бы для него слишком опасен.
– И еще одна, хотя и не столь существенная, новость, милорд. Степан Лопухин скончался в ссылке в Сибири.
– Теперь императрица могла бы проявить милосердие в отношении жены и сына, если, конечно, они живы.
– Племянница Анны Монс и ее сын живы, но никаких послаблений в отношении их наказания не последовало.
– Но ведь у былой красавицы, кажется, вырезан язык?
– Тем не менее это не удовлетворило жажды мести императрицы.
Итак, крестник Петра I, архитектор, которому Елизавета Петровна решается поручить самую важную для нее постройку. Но ведь о крестнике Петра I говорили и члены семьи Лопухиных, обвиняя Бестужева-Рюмина в „злокозненных хитростях“, связанных со строительством Климента. Привлеченные к следствию по мнимому заговору против только вступившей на престол Елизаветы, они всячески пытались очернить будущего канцлера, видя в своих несчастьях его жестокую и расчетливую руку. Так что же, Петр Трезин, молодой, талантливый помощник Земцова, которому явно благоволила новая императрица? Но сначала – обстоятельства возникшего у Бестужева-Рюмина решения.
Распоряжение о строительстве петербургского собора последовало 7 декабря 1741 года. По словам документа, „ее императорское величество, будучи в новопостроенных лейб-гвардии Преображенского полку солдатских слободах, соизволила высочайше указать: на том месте, где гренадерской роты съезжая была, построить каменную церковь… и на построение оной для сбору денег сделать книгу и сей ее императорского величества высочайший указ впредь для исполнения записать в книгу“.
Здесь Елизавета выступает настоящей дочерью своего отца: памятник ее восшествия на престол не должен отягощать лишними расходами царского кармана. Для тех же, кто делал добровольные пожертвования, размер вносимой суммы связывался с перспективой служебной карьеры и императорского благорасположения. Первоначальная сумма, на которую решила разориться Елизавета Петровна, составила пятьдесят тысяч рублей. Десятого декабря о строительстве замоскворецкого Климента объявляет Бестужев-Рюмин и ассигнует на него семьдесят пять тысяч – примерно столько, сколько в конечном счете удалось собрать для Преображенской слободы.
Впрочем, от суммы объявленной до суммы затраченной дистанция огромного размера – на нее и рассчитывает канцлер. Следит за настроениями императрицы. За тем, как складываются судьбы тех, кто ее окружает.
От этого и зависят его денежные распоряжения: не опоздать бы, но уж тем более и не потратиться зря.
Петербург. Зимний дворец
Императрица Елизавета Петровна, М. Е. Шувалова
– Что это ты, Мавра Егоровна, долго ждать себя заставляешь? Второй раз за тобой посылаю. Дела, что ль, какие неотложные?
– Никак нет, государыня, просто так я замешкалась, не гневайся.
– И жмешься ты чего-то, в глаза не глядишь. Знаешь, что ли, о чем разговор пойдет?
– Откуда знать, матушка. О чем, может, и станешь догадываться, да мысли-то это ненужные, страшные, прочь их, как мух надоедных, гонишь.
– Авось обойдется, значит, так рассуждаешь, Маврушка? А тебе-то что за печаль? За кого болеешь, чего опасаешься?
– Да не спрашивай ты меня, матушка, уволь, лучше уж сама скажи, чего надобно от меня.
– Ну коли так, так так. Потолкуй, Мавра, с Алексеем Григорьичем, скажи, хочу, чтобы со дворца съехал.
– Матушка Елизавета Петровна!
– Что такое? Чего зашлась?
– Не надо, матушка, повремени, голубушка ты наша! Повремени, Христом богом прошу. Глядишь, с мыслями соберешься, охолонешь, опять все по-старому пойдет. Сколько лет с Алексеем Григорьевичем прожила в мире да согласии, ну когда какое неудовольствие и бывало, так не без этого – жизнь-то она непростая. Он ли тебя не любит, он ли о тебе не заботится. Сердцем к тебе прикипел, а ты разом – из дворца! Красавица ты как была, так и осталась, а все же годков-то тебе набежало. Со стороны не видно, да уйти от них не уйдешь. Без малого двадцать лет никто не нужен тебе был, а тут накось, все наперекос пойдет. Рушить старое-то легко, да будет ли новое лучше-то, кто знает. Да и что за новое – смех один…
– Вот и договорилась ты, Мавра, до словечка заветного. Смешно, значит, тебе стало.
– Да говорится это так На деле какой смех – слезы одни. Прости, матушка, если по глупости сорвалось. Да только юнец совсем Иван Иванович-то. Что тебе от такого радости на твои-то годы. Так, забава одна, да и та надоест.
– Забава, говоришь. Вот что, Мавра, сколько рядом прожито, переговорено сколько, а выходит, знать ты меня не знаешь.
– Как не знать!
– Не знаешь! Разумовским коришь, а не подумала, не припомнила, Маврушка, как любовь-то наша у нас с ним началась. Как я от слез свету божьего не видела, а ты все Алешку певчего звала, чтобы песни попел, голосом своим бархатным сказки посказывал. Заговорил, спору нет, песнями своими околдовал, а сердца, сердца-то не тронул, тебе ли про то не знать. А когда цесаревна с певчим слюбилась, что ж тогда не говорила, что смешно, что толки пойдут, что забава одна? Тогда-то молчала, тогда-то всему поддакивала. Обо мне тревожилась? Знаю. Только тревога твоя была не обо мне одной – о себе не меньше думала. Чтоб не случилось с цесаревной чего, чтоб сохранить вашу принцессу Лавру,[5] чтоб до престола ее довести да и самой с ней вместе во дворец войти. Не корю я тебя, Мавра, не корю, и в мыслях у меня того нет. Ты мне Алексея Григорьича от сердца сватала, в утешенье. Только вот Алексей Григорьич-то быстро на новом месте пригрелся, и песни петь перестал, и с голосу спал. Одно дело за деньги, другое от охоты, а охоты-то и не стало. Сытно есть, мягко спать да еще родне своей денежки собирать. Не жалела я, никогда не жалела. Сколько могла, столько давала, радовалась, что хоть кого еще облагодетельствовать могу. А ведь он брал, не думаючи, может, самой цесаревне нужно, может, ей от тех рублевок да червонцев тоже радость бы была.
– Так ведь мать же у него родная, сестрицы, братец, сердце-то доброе, вот за всех и болит.
– А за меня болело ли? Уж если про любовь ты толк завела, то, может, любовь – она чтоб все отдать, ничего не спросить, как ты сейчас сынку своему? А случись ничего не осталось бы у меня, пошел бы твой Алексей Григорьевич по-прежнему коров пасти, чтоб жену кормить, аль другое место теплое поискал?
– Да полно, матушка, к чему ты все это придумала?
– Придумала? Да я все годы о том думала. Слышь, все годы. И когда во хмелю озоровал, и руку на меня подымал, и когда с дружками веселиться на задний двор шел. Что ж за годы-то эти долгие не обучился ничему, ни политесу, ни обхождению придворному – лень, да и так хорош, и так царице-матушке люб. Вон она, голубушка, каждое слово его хвалит, каждому слову поддакивает, какую дурость ни скажи. Влюбилась на веки вечные, и аминь!
– Бог с ним, с политесом, государыня. Когда человек в чести, кто ж ошибки его считать будет? Да и разговоров таких про Алексея Григорьевича чтой-то не слыхивала. Не иначе наплел кто.
– Что другим-то плести, у самой глаза есть. В ночь ту страшную струсил, дома отсиделся и в помыслах не держал, чтоб голубушку свою цесаревну защитить да прикрыть. Только отговаривал: мол, и так проживем, и так, мол, ладно, абы помаленьку, абы потихоньку, как мыши под метлой. Вот потому и поддакиваю, потому и во дворец взяла, чтоб в стыде своем не признаваться. Коли выбрала, коли детей прижила, так и должна до себя поднять. Не валенок ношеный, за порог не кинешь.
– А чего ж теперь-то кидать решила? Недаром сердце у меня болело, как ты с канцлером полвечера толковала, не к добру, думаю, ой не к добру.