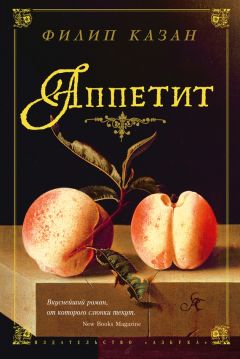За последующие пару недель я очень хорошо узнал девушек седовласой дамы – ее звали донна Эуфемия. Иногда все десять приходили в палаццо Борджиа и танцевали, как они всегда это называли, а иногда требовались только три или четыре. Маленькая рыжая Магальда оказалась даром Небес или, возможно, другого места, потому что она описывала мне подробности любых других танцев, в которых принимала участие, рассказывала, что требовал предыдущий стольник, что вроде бы понравилось кардиналу – понравилось, говорила она, не было приятно, потому что мой наниматель, очевидно, получал больше удовольствия от наслаждений своих гостей, чем от собственных. Например, он никогда не брал девушку для себя. Благодаря Магальде я смог сложить все пиры в одну картину, как будто занимался этим всю жизнь, как будто мой отец был содержателем борделя, а не мясником. Однако с течением дней я обнаруживал, что все дальше и дальше отхожу от кухни. Я теперь бывал с многими людьми – как стольнику, мне приходилось быть политиком, учителем танцев, постановщиком спектаклей, сводником, пожалуй, в наибольшей степени, – но поваром почти никогда. Я проводил больше времени в борделях и домах куртизанок, чем на рыбных рынках, потому что девушек для палаццо Борджиа поставляла не только донна Эуфемия, но еще два десятка хозяек и хозяев.
Иногда требовались светские дамы, куртизанки, как называл их обычай, чьими сокровищами были ум и остроумие, начитанность и то, насколько хорошо они знали самые свежие танцы из Флоренции или Неаполя. В другие времена мне приходилось нанимать уличных шлюх, причем обоих полов, из самых сомнительных кварталов города. Все зависело от гостей, вокруг которых строился каждый конкретный пир. Паголини сообщал мне в своей взвешенной маловыразительной манере о пристрастиях и слабостях каждого почетного гостя.
Для одного вечера мне пришлось приготовить то, что я ненавидел больше всего: «летучий пирог». Однако этот нужно было заполнить девушками. Подходили только невысокие и худенькие, так что я нанял Магальду, а потом принялся рыскать по борделям и улицам в поисках самых маленьких шлюх. Я уже завоевывал репутацию истинного князя разврата, и в некоторых частях Рима я и шагу не мог ступить без того, чтобы десяток женщин не начали умолять меня выбрать их для любого замысла, который у меня будет. Так что не возникло трудностей с тем, чтобы найти шесть крошечных женщин приятной внешности, которых не смущала идея, что их обмажут медом, утыкают перьями и засунут в большую деревянную ванну под крышу из выпеченных черепиц.
В тот вечер от гостей, мужчин и женщин, требовалось прийти в костюмах кошек. Когда кардинал вонзил в пирог деревянный меч и девушки выпрыгнули наружу, кошки принялись гоняться за ними вокруг стульев и под столами. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из кошек запомнил вкус хоть одного блюда того вечера, кроме пота разгоряченных, испуганных женщин, смешанного с медом и поломанными куриными перьями.
Какие-то ночи пиров я проводил один, но не многие. Пользовался ли я услугами донны Эуфемии или других хозяек и хозяев, они всегда, похоже, старались оставить одну девушку для меня. Поначалу мне было неловко от таких порядков: я находил пиры и так называемые танцы безвкусными и вульгарными и лишь устраивал и проводил их, а потому воображал, что девушки чувствовали себя еще хуже. Но с течением месяцев я понемногу отпускал свою прежнюю жизнь повара и начинал получать удовольствие от сложной задачи устройства одного чудесного, запоминающегося пира за другим – только задачи, заметим. Я убедил себя: суть вся в том, чтобы сделать невозможное реальностью, и что в этом смысле я по-прежнему остаюсь художником, в чьем распоряжении просто-напросто больше красок. Моя привилегия как стольника стала тем, что я, по моему ощущению, заслужил. А почему нет? Я знал, что никогда не полюблю снова. Фортуна не сможет сотворить со мной ничего худшего, чем уже сделала.
Со временем, когда хозяйки лучше узнали мои пристрастия и антипатии, девушки стали более соблазнительными, более жаждущими, более искушенными телом и умом. И я этого ожидал; я начал этого требовать. Мужчины дворца теперь мне завидовали. Они разглядывали меня, когда я спускался поутру, и все гадали, чем я занимался прошлой ночью и как они могут хотя бы надеяться на такую удачу и мужскую силу. Это была мечта юнца, сбывшаяся во всех возможных смыслах, – находить в постели женщину, когда бы ты ни захотел, и чтобы все вокруг тобою восхищались. Счастливчик – вот бы им всем тоже так повезло. Я, однако, не был счастлив. Я был просто пуст.
Чем дальше, тем более странное воздействие на меня оказывали эти удовольствия. Вместо того чтобы наслаждаться самому, я как будто стал актером. Потеряв все, что мне было дорого, я боялся теперь только одного: увидеть неудовольствие или разочарование на лице его высокопреосвященства или на лицах шлюх, которых брал в постель.
Мне доставались все утехи, каких я только мог потребовать, но у них была своя цена. Хозяйки борделей и сводники меня испытывали, пробовали на прочность: сейчас я считался их господином, но все могло перевернуться за одну ночь, и многие стольники в конце концов становились развращенными марионетками собственных жадных поставщиков – таким получился и закат моего предшественника. У меня была лучшая должность в Риме: каждый хотел быть на моем месте или же мной управлять. И чтобы этого никогда не случилось, я сам начал принимать свои индийские листья. Бетель не оказывал никакого воздействия, насколько я мог судить, кроме онемения языка. Но каннабис, настоянный в вине, заставлял все мое тело петь, словно колокол. Были и другие средства: дикий мак приносил спокойствие и давал мне просто потрясающую выносливость в постели. Девушка из одного борделя, которую ребенком работорговцы привезли с побережья Гвинеи, познакомила меня со сладким пурпурным орехом, который она называла «кола»: если пожевать его в достаточном количестве, он принуждал проснуться, а голова начинала гудеть, как осиное гнездо. Чем больше я работал, тем больше принимал; и чем бóльшую дозу отмерял себе, тем больше тревожился из-за возможности провала. Но все это оставалось внутри. Снаружи я с каждым проходящим днем становился все больше похожим на Паголини. Ничто меня не удивляло, никакое мое желание не было слишком сложно удовлетворить. У меня не осталось своего «я». Я жил ради услаждения Родриго Борджиа.
Но сам его высокопреосвященство: ради чего жил он? Ради власти, очевидно, потому что ее трепетание ощущалось в стенах палаццо Борджиа. Но в отличие от других великих людей, которых я знал, Борджиа, хоть и держался за власть безжалостно жесткой хваткой, не позволял этой власти давить на себя. Я никогда не слышал, чтобы он произнес злое слово или сделал что-то причиняющее боль другим. У него только что родился сын Чезаре, и с младенцем и своим старшим сыном Джованни, славным мальчуганом лет трех, кардинал вел себя мягко и терпеливо.
Поначалу я чуть было не поверил, что эти пиры и танцы – целиком творения Доменико Паголини, а кардинал просто с ними мирится. Но чем больше я за ним наблюдал и чем больше он мне доверял, тем более странным казался. Потому что именно Борджиа знал каждый секрет, каждый зарытый грешок, каждую потребность и желание своих друзей, врагов, коллег, соседей, слуг и родственников. У него словно было тайное окно в каждую спальню Италии, и во все денежные места тоже, потому что, хотя с каждым из его гостей обращались в соответствии с его положением, в первую очередь деньги определяли, будете ли вы наслаждаться сладострастными утехами стола его высокопреосвященства.
Казалось, у него было совсем мало собственных желаний. Кардинал ел обычно с аппетитом, пил не слишком мало и не слишком много. Хотя прекраснейшие женщины Рима проходили через его покои практически бесконечной чередой, он вроде бы оставался всецело преданным донне Ваноцце. А на своих пирах он наблюдал. Существуют люди, которые заплатят, чтобы посмотреть, как шлюха занимается этим с другим мужчиной, или будут шнырять вокруг женской бани, пытаясь найти открытое окно или щель в стене. Кардинал был не из таких. Пока шлюхи плясали, а куртизанки обольщали, Борджиа наблюдал не для собственного возбуждения, но, как мне казалось, дабы учиться узнавать что-то. Он был философом в своем роде, возможно, одним из величайших философов своего века. И предметом его изучения было человечество: поведение людей, их мотивы и, превыше всего, их слабости.
Шла четвертая неделя после Пасхи 1478 года. Я был в своем кабинете, проверяя бесконечные счета, когда получил вызов от его высокопреосвященства.
– Я вчера разговаривал с его святейшеством, – сообщил кардинал. Джованни играл в углу кабинета, и Борджиа больше внимания обращал на сына, чем на меня. – О художниках. Я упомянул, что вы племянник Филиппо Липпи, упокой Господи его душу, и что у вас много друзей среди художников Флоренции.