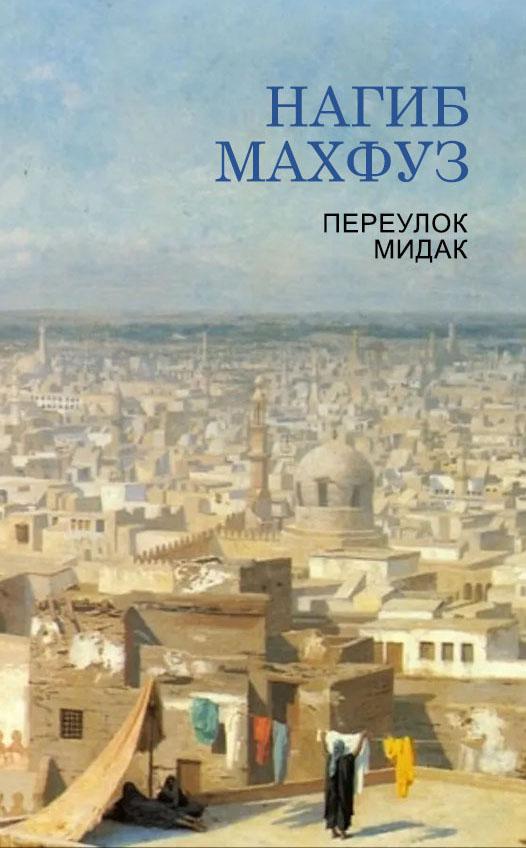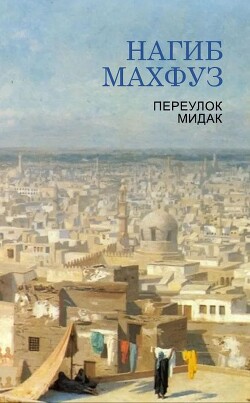существовал. Она переменилась: теперь её думы полностью занимало лишь одно желание, портившее её безмятежность, — завладеть им. Хамида стала заложницей своей любви, ревности и гнева. Все эти чувства разом охватили её, пока она смотрела на своё отражение в зеркале. Взгляд её застыл, нервы натянулись как струна. Она собрала всю свою волю. Он быстро сказал, делая вид, что спешит:
— Ты закончила, дорогая моя?…
Однако она не придала значения его вопросу, намереваясь не отвечать в знак неодобрения подобной его озабоченностью её «работой», и с грустью вспомнила то время, когда он говорил с ней исключительно о любви и восхищался ею. А сейчас, если и открывает рот, то все его слово — только о работе и прибыли… Она не могла чувствовать себя свободной из-за этой работы и из-за тирании собственных эмоций. Гнев наполнял её грудь, но какая от него польза?!.. Она утратила свою свободу, ради которой разрешила себе творить любой грех. Она испытывала ощущение собственной силы и власти, если шла на улицу или в бар, а когда видела его или вспоминала, то на место этих прекрасных чувств приходили унижение и плен. Если бы она была уверена в его привязанности, все трудности показались бы ничтожными, и унижение любви к нему обернулось бы её триумфом. Но всё было иначе, и потому единственным выходом для неё была злость. Фарадж Ибрахим знал, что её тревожит, но хотел, чтобы она привыкла к его холодности и спокойно сдалась перед лицом неминуемого разрыва. Если бы то была другая женщина, расставание было бы намного проще. Однако он предпочитал, чтобы она испила горькую чашу отчаяния глоток за глотком. Потому он и запасся терпением и выдержкой на целый месяц, прежде чем нанести решительный удар. Тоном, лишённым эмоций, он сказал:
— Давай же, дорогая, время — деньги.
Она резко повернулась к нему и с раздражением спросила:
— Ты ещё не отказался от этих вульгарных выражений?!
— А ты, дорогая моя, не отказалась отвечать таким сухим тоном?
Её голос задрожал от гнева:
— Тебе нравится теперь так разговаривать со мной?!
Он сделал скучающий вид и сказал:
— Ну да… Мы снова возвращаемся к тому ничтожному разговору! «Так разговаривать со мной»… «Ты не любишь меня»… «Если бы ты любил меня, то не считал просто-напросто товаром»… К чему все эти слова? Разве я люблю тебя только тогда, когда с утра до вечера повторяю «Люблю»?.. Разве я не люблю тебя, когда каждый раз, как мы встречаемся, не говорю первым «Я тебя люблю?»… Разве нет любви, если наши разговоры о ней отвлекают нас от нашей работы и от обязанностей? Я бы хотел, чтобы твой разум был таким же сильным, как и твой гнев, и чтобы ты посвятила свою жизнь этой замечательной работе, которую поставила выше самой любви и всего остального…
Она слушала его с лицом, побелевшим от ярости. От его вялых слов веяло холодом. В подобном увиливании не было ни следа от прежней привязанности, она почти свыклась с ним с тех пор, как заметила, что он остыл к ней. Она помнила, как этот ловкач специально подверг её критике — он внимательно рассматривал её руки, подстрекая проявить к ним больше внимания: «Отрасти ногти и сделай маникюр… Твои руки — это твоё слабое звено во всём теле!» В следующий раз он сказал ей, вымещая на ней зло после произошедшей ссоры: «Будь осторожна! Ещё одно твоё слабое звено, которое я раньше не замечал — твой голос, дорогая! Кричи, если хочешь, но всем ртом, а не гортанью. Иначе твой голос будет таким же грубым. Если оставить всё как есть, не исправлять и не утончать его, он кажется просто ужасным и напоминает о переулке Мидак, даже если бы ты была королевой!» Вот как разговаривал с ней этот прелюбодей!… Как же сильно ранили её эти слова, унижая гордое сердце. В обращении с ней он был мягок и продолжал увиливать всякий раз, как она заговаривала о любви. Со временем он даже перестал изображать даже эту нарочито ложную обходительность и в сердцах выложил ей: «Любовь — всего лишь забава, а мы здесь заняты серьёзным делом!» Или равнодушно предложил: «Приступай к своей работе… А любовь — просто глупое слово». Да пропади он пропадом! Чаша её души переполнилась болезненными воспоминаниями… Она жёстко поглядела ему в глаза и резко выпалила:
— Ты не имеешь права так разговаривать со мной. Почему ты всё время напоминаешь мне о работе? Я разве невнимательна в работе? Ты прекрасно знаешь, что я превосхожу остальных девушек и приношу больше прибыли, чем они. Ты зарабатываешь на мне вдвое больше, чем на них вместе взятых. Это опостылевшая, жалкая тема. Сообщи мне, наконец, откровенно, без всяких виляний и увёрток, ты по-прежнему любишь меня?!
Он сказал себе, что теперь-то пришло время швырнуть в неё решительный ответ. Разве он не подготовил достаточную почву для того?… Он принялся быстро и активно размышлять над этим, не сводя с её разгневанного лица свои миндалевидные глаза. Однако он всё ещё колебался и в конце концов предпочёл мир, пусть даже на время, и потому заигрывающим тоном сказал:
— Мы опять вернулись к старой теме….
Она взорвалась от крика:
— Ответь мне откровенно. Ты считал, что я умру от горя, если ты лишишь меня своей благодатной любви?
Время было не подходящим. Если бы она задала ему этот вопрос после возвращения с работы на улице, или скажем, утром — тогда время благоприятствовало бы манёврам и ссоре — и он ответил бы ей так, как хотел. Но сейчас откровенный ответ мог быть риском — тогда он бы лишился всей прибыли от неё за день. Вот почему он улыбнулся холодной улыбкой и тихо сказал:
— Я люблю тебя, моя дорогая…
Слова любви прозвучали мерзко, вылетев из его скучающего рта — словно то был плевок! Её охватила досада, заставившая почувствовать, что она никогда не откажется от этого унижения, каким бы огромным оно ни было, если только оно гарантирует, что вернёт его в её объятия! На миг она ощутила, что за его любовь готова отдать свою жизнь. Но то был лишь преходящий миг, и она быстро пришла в себя, и её сердце наполнилось скрытой злобой.