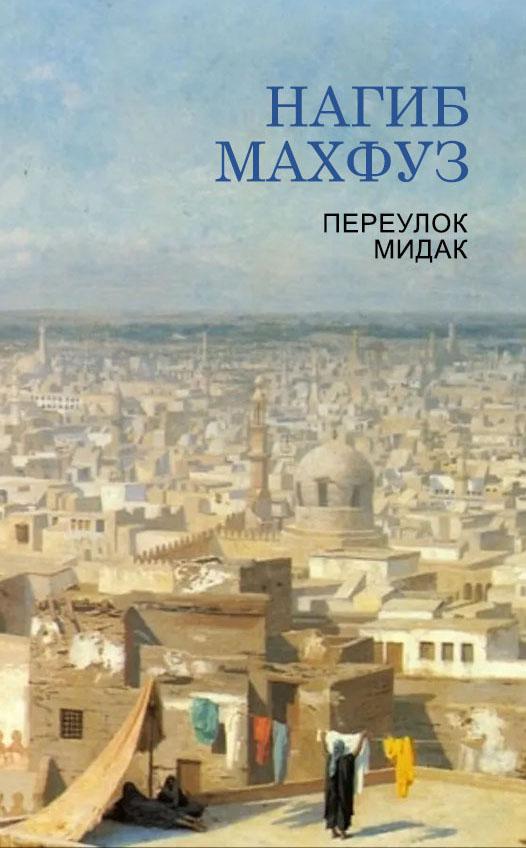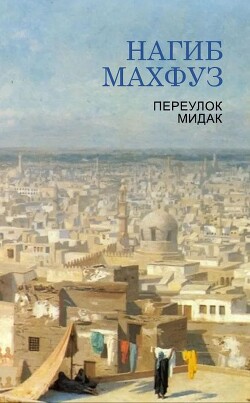Он проглотил слюну и пересказал отцу то, о чём поведал ему накануне вечером Аббас, когда они вместе шли по улице Муски. Взволнованным резким тоном он сказал:
— Он пошёл со мной, чтобы показать мне тот бар, в котором ему назначила свидание эта дьявольская девица. И когда мы проходили мимо него, он увидел эту проститутку посреди толпы солдат. Он потерял самообладание и бросился внутрь, швырнув ей в лицо стакан, прежде чем я смог разобрать, что он намерен сделать. Солдаты разбушевались и стали нападать на него по-десятеро, нанося удары, пока он не упал между ними без движений.
Он сжал кулаки и заскрежетал зубами в гневе:
— Вот дьявол! Я не мог подоспеть и спасти его!… Нас разъединила толпа этих тупых солдат, что заблокировали двери… Ох, если бы только мои руки дотянулись до шеи одного из тех проклятых солдат…
Сердце его погрузилось в печаль, а из груди непрерывно рвалось наружу пламя гнева, пока не вернулось в переулок и не скрылось в пучине стыда и срама. Учитель Кирша же хлопнул ладонью о ладонь и произнёс:
— Нет силы и могущества ни у кого, кроме как у Аллаха. А что вы сделали с ним?
— После этого прибыла полиция и оцепила бар, но к чему оцепление? Его тело увезли в больницу Каср Аль-Айни, а эту шлюху забрали оказать ей неотложную помощь…
Кирша внимательно спросил:
— Она убита?
Юноша злобно ответил:
— Я так не думаю… Не думаю, что тот удар был смертельным Он погиб напрасно.
— А англичане?
Хусейн с сожалением произнёс:
— Мы оставили их в окружении полиции. Однако кто может ожидать от них справедливости?
Кирша снова хлопнул рукой об руку:
— Поистине, мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся. А узнали ли уже родственники этого юноши эту горестную новость? Отправляйся-ка к его дяде по матери Хасану-башмачнику в Харнафиш и сообщи о смерти его племянника. А Аллах делает, что пожелает.
Хусейн поднялся, превозмогая усталость, и покинул кафе. Новость распространилась; учитель Кирша повторял ту историю, что рассказал ему сын, множество раз тем, кто приходил в кафе, а языки тех в свою очередь разносили её дальше, прибавляя к ней всё, что хотели. Дядюшка Камил, пошатываясь, тоже пришёл в кафе: эта мрачная новость обрушилась на него как гром с ясного неба. Он бросился на кресло и принялся горько плакать и всхлипывать словно ребёнок. Он никак не мог поверить в то, что юноши, приготовившего для него саван, больше нет в живых. А когда известие достигло матери Хамиды, она с воплями выбежала из дома, и те, кто видел её, говорили, что она плакала не по убитому, а по убийце! Больше всего, однако, эта новость поразила господина Салима Алвана, но не из-за скорби по убитому юноше, а из-за страха перед смертью, что прорвалась в переулок, вызвав у него панику и удвоив боль. Теперь к нему вновь вернулись все прежние мрачные мысли и болезненные фантазии об агонии, смерти и могиле, истощившие его нервы. Его охватила тревога, что подняла его с места; сидеть больше ему было невыносимо. Тогда он принялся мерить шагами контору взад-вперёд, даже выходить в переулок и искоса поглядывать на салон, долгие годы принадлежавший Ал-Хулву. Если ранее он избавил себя — из-за сильной жары — от необходимости пить тёплую воду, рекомендованную ему врачом, то теперь дал указание слуге подогревать ему питьевую воду, как тот делал зимой, и провёл целый час в страхе и панике, меж тем как плач дядюшки Камила сотрясал его нервы до предела…
* * *
Этот пузырь, как и предыдущие, со временем растёкся по поверхности воды, и переулок Мидак посчитал для себя необходимостью поступить согласно своей извечной добродетели, а именно, — забыть и не обращать ни на что внимания. Утром он продолжал всё так же лить слёзы — если уж на его долю выпадало плакать, а вечером заливаться от хохота. Меж тем и другим двери и окна в переулке скрипели, когда их открывали, и вновь скрипели, когда закрывали вновь. В этот период ничего особенно не произошло, разве что госпожа Сания Афифи настояла на том, чтобы освободить квартиру, в которой жил доктор Буши до того, как попасть в тюрьму, а дядюшка Камил вызвался добровольцем, чтобы перенести его личные вещи и медицинские инструменты в свою квартиру. В объяснение тому говорилось, что дядюшка Камил предпочёл соседство с доктором Буши в одной квартире непривычному для себя одиночеству. В этом его никто не попрекал, даже наоборот, сочли благородством, ибо тюремное заключение не было в Мидаке чем-то порочащим человека.
В те дни ходили слухи о возобновлении контактов матери Хамиды со своей дочерью, которая шла на поправку, и о том, что Умм Хамида мечтала получить свою долю с такой переполненной сокровищницы. Затем внимание переулка внезапно привлёк переезд в квартиру доктора Буши одного мясника с семейством: оно состояло из него самого, его жены и семерых сыновей и одной красавицы-дочки. Хусейн Кирша так сказал о ней: она подобна половинке луны. А когда наступило время возвращения из хаджа в Хиджазе Ридвана Аль-Хусейни, все только и думали, что об этом грядущем дне. Были развешены фонари и флажки, землю Мидака посыпали песком. Все тешили себя мыслями о ночи ликования и веселья, память о которой останется надолго.
Однажды Шейх Дервиш увидел, как дядюшка Камил шутит со старым парикмахером, и поглядев на потолок кафе, воскликнул:
Человека называют только для того, чтобы забыть его.
Не существует сердца, которое бы не менялось.
Лицо дядюшки Камила помрачнело и потускнело, а глаза наполнились слезами. Однако Шейх Дервиш пренебрежительно подёрнул плечами, и всё так же пристально глядя на потолок, процитировал:
Тот, кто умер от любви, умер в скорби.
Нет пользы в любви без смерти.
Затем он вздрогнул, глубоко вздохнул и продолжил:
— О Госпожа всех дам… О Исполнительница всех желаний… Милосердие… Милосердие, о обитатели семейства Пророка. Клянусь Аллахом, я буду терпелив, пока жив. Разве нет у каждой вещи конца? Да, у каждой вещи есть конец… А по-английски это будет «end», и произносится как «э-н-д».