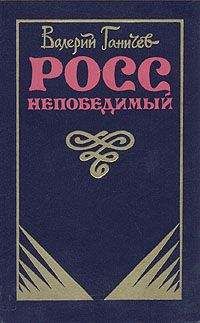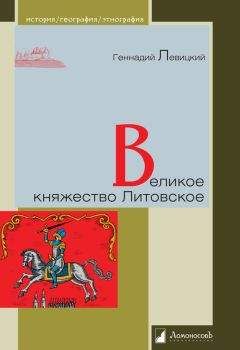Да он вдруг и сам занемог. Правда, почему вдруг, ведь почти семьдесят уже… Ох-охо, в шубу бы завернуться да греться на солнышке. Потянуло сырым, мокрым, на вершины пал снег… А в России бабье лето, паутинки летят… Чихнул, вытер испарину… Что-то чиркнуло по глазам, он вздрогнул, понял: болеть нельзя, лягут в чужую землю солдаты, развеется слава, пожмут плечами недруги: что ждать от старого? А пуще – российские знамена под ноги падут…
Решил собрать Военный совет… В тот день заморосило. Вроде и не было дождя, но на ресницах, на лицах замокло, сыро стало под рубахами. Неприятно.
Командиры заходили в дом, отряхивались, оглядывались и садились на свободные кресла, стулья и длинную резную скамью. Тихо переговаривались А он молчал, сидел за столом, обернулся шерстяной накидкой – знобило. Понимал, что выглядит не внушительно, но об этом никогда не заботился. Зашел щеголеватый и резкий Милорадович. Аккуратно вдвинулся в двери генерал от инфантерии Розенберг. Запыхтел и плюхнулся в кресло второй командир корпуса Вилим Христофорович Дерфельден. В годах, в годах. Тяжко ему по горам таскаться! Вытираясь и чертыхаясь, плотно уселся боевитый князь Горчаков. Слегка прищелкнул каблуками и вежливо поклонился Багратион. Каков молодец! И виду не показывает, что раны болят. В углу у маленького стола с картами сгрудились адъютанты: Румянцев, Ставраков, Розен, Горчаков и Аркаша – сынок. Покряхтывая, покашливая, крестясь, ввалились казачьи командиры Денисов, Астаков, Бородин. Подошли и другие, сели, сгрудились, ожидали.
А он молчал, глядел сквозь ресницы. Умел бы плакать, глядел бы на своих верных соратников, друзей верных своих, сквозь слезы. Слезы восторга и восхищения. Слезы благодарности за веру в него, за веру в победу. Но глаза были сухи. Знал, что скажет им ужасное, потрясет, может, и подорвет веру в его удачливость. Но скажет. Обязан сказать. Ибо решение, которое принимает, опасно, а может быть, и смертельно. Все бывает на войне, но в такой ситуации оказался впервые. Ситуация безвыходная. Без выхода. Что делать? Он никогда ведь не сдавался на милость врага. Смерть? Смерть героическая? Нет, и это не выход. Нет. Надо с ними. Надо с солдатами искать выход. Рваться вперед. Нет, рваться назад. Из кольца, из удавки. Вспомнил рослого семеновского гвардейца, что учил его в юности: «Никогда не сдавайся. Ударили в физиономию – упал. Вставай. Снова бьют. Еще раз вставай! Бьют еще, снова вставай. Бей сам в морду и иди вперед».
Да, бить будем! Где же Шейковский? Встал, сбросил платок. Оперся руками о стол, склонил голову набок. Замолчали все. Тихо.
– Господа командиры! Волей судьбы военной вы здесь, в центре Европы. Воины наши одержали победы блистательные, храбрость проявлена невиданная. И я вас, мужей доблестных и смелых, сердечно благодарю и низко кланяюсь!
Вышел из-за стола, встал на колени и поклонился. Возвратился, взялся рукой за горло, прокашлялся и каким-то тусклым старческим голосом продолжал:
– Не все знают, что неприятель учинил разгром корпуса Корсакова и генерала Готце. Туда, куда стремились, там поле поражения, разбегающиеся остатки союзных войск. У нас пехота боса, нага, патронов нет. Хлеб и сухари кончились. Мы в окружении жестокого и превосходящего нас силами врага, круч и бездн, сих отверстых гробов смерти. Впереди неприятель, позади ледяные хребеты, перевал Паникс… По военному искусству сдаваться надо или вопреки, презрев все правила, прорваться сквозь горы, по пастушьим тропам, штурмовать льды и небеса. Я такое решение принял. Скажите ваше слово!
Сел, охватил голову руками. Слушал.
– Как же сие вероломство допустили австрийцы?.. – Розенберг – всё честности и правил ждет от союзников…
– Вперед надо броситься, знамена развернуть и погибнуть со славой… – Милорадович – горяч, молод, смел.
– Пока голова колонны подымется, мы рейды сделаем, запутаем французов. Они, что к чему: думать будут, а мы уже за перевалом. А там и черт не страшен… – Казачьи командиры бесстрашны, находчивы.
– Пушки отстреляв, заклепать надо. Туда не дотащить, а оставлять преступно… – Знает свое дело начальник артиллерии.
– Не можем не прорваться с нашим славным Александром Васильевичем! Солдаты только и спрашивают: а он с нами?.. – Добр, добр, Мансуров. Татарин, но во славу России сражается отменно.
– Будем сражаться стойко, врагу не поддадимся. По плану вашего сиятельства все сделаем. Прорвемся. – …Важно, важно, что сие сказал Дерфельден, командир основного корпуса…
Всех выслушал. Закончил совет просто, сурово и честно. Голос снова, как при Кинбурне, Измаиле, был тверд и колюч!
– Помощи нам ждать не от кого… Мы на краю гибели… Теперь одна остается надежда… На храбрость и самоотверженность войск! Мы русские, с нами бог!
Уже после совета подошел Багратион и, с восторгом глядя на него, сказал: «Ваше сиятельство, после ваших слов у меня происходило необычное, отроду не бывавшее волнение в крови, меня трясла от темени до ног какая-то могучая сила, я был в каком-то незнакомом мне положении, в состоянии восторженном… Мы выходим с восторженным чувством, с самоотвержением, с силой воли духа: победить или умереть, но умереть со славой – закрыть знамена наших полков телами нашими». Обнял его тогда – этот смерти не уступит, его французы не одолеют.
Еще два дня назад ему самому можно было вырваться в Вену, хотя бы для того, чтобы бросить там в лицо невеждам из Гофкригсрата обвинение в нечестности и коварстве и оправдать это досадное окружение, показать невиновность его войска. Но ему и в голову не приходило столь «благородно» устраниться от, казалось, уже проигранных сражений. Он верил только себе, только в своих чудо-богатырях видел спасение и высшую силу. Ему слава не нужна – получил все в жизни. А сейчас надо спасать их – этих оборванных, заросших, с перевязанными сапогами солдат. Спасать их – значит брать на себя всю тягчайшую ответственность, собрать в кулак всю волю, не дать никому расслабиться, дрогнуть. Спасать их – это отдать им всю свою силу, всю страсть. И тогда они спасут всех, тогда они победят…
…Конь переступил еще раз и сделал-таки неосторожный шаг. Посыпался щебень, зашуршали камушки, колыхнулся в седле всадник.
– Тихо, тихо, – раздался сдержанный голос вставшего на самом краю пропасти пешего казака. – Не балуй, сделай один ход назад.
Конь радостно всхрапнул и отступил.
– Вы, батюшка, не серчайте… пристала она.
– Да что ты, голубчик. Вишь и спас лошадку. Знаешь ее?
– Моя была, в Таверне спешился. Шел в строю, а ей посчастливило! С самим Суворовым едет.
Фельдмаршал вспомнил, что этого спокойного коня ему привели после Чертова моста, его конь захромал.
– Да, разумная лошадь, копытом чувствует. А ты, братец, постой с ней. Все спокойнее – хозяин рядом. А я посмотрю, как идут…
Казак с благодарностью кивнул, а он спешился, прошел чуть вперед на небольшую площадку и обернулся. Внизу из зеленых садов долины Зернфа торопливым шагом шли пехотинцы Розенберга, еще дальше у изгиба реки вспыхивали огоньки, оттуда доносилось неторопливое незлобное громыхание. А между тем то был жестокий смертельный бой арьергарда с наседавшим Молитором. У седловины перевала Паникс, наполовину засыпанного снегом, показались крохотные фигурки. Постояли, подняли ружья. Постояли, еще раз подняли. Выстрелов не было слышно, но красненькие вспышки означали: перевал свободен, можно идти дальше.
Подбежал офицер связи, задыхаясь и хватая воздух ртом, закричал:
– Ваше сиятельство, дорога узкая, повозки и оставшаяся пушка не проходят. Что делать?
– Жгите! Жгите, а что не горит – с гор в реки! Да я ведь говорил уже. И пушку туда же! Солдатиков пусть берегут, а за бочки и мешки спрашивать не буду.
Офицер обернулся, огляделся и что-то вполголоса сказал. Шедшие рядом солдаты вздрогнули от резкого фальцета:
– Передай ему, что он не русский офицер, а басурман и дурак! Не трогать пленных и пальцем! Пусть с нами идут через перевал.
Тысяча четыреста пленных французов остались живыми. Когда офицер трусцой бежал вниз, бросил ему вдогонку:
– Волос чтобы не упал! Волос!
Когда он поднялся вверх на перевал, внизу было совсем темно, а здесь скользил по алому снегу последний луч уходящего солнца.
Солдаты дышали тяжело, держались за грудь и тихо исчезали за хребтом. Решил подбодрить:
– Ну что, братцы, надули французов!
Солдаты заулыбались, подтянули ремни, поправили ружья.
– Надули, батюшка. Они там внизу остались и по долине не хотели даже бежать, а здесь-то в горах и совсем пригорюнились. А нам-то что, мы уже привышные!
– А откуда ты, молодец? А ты, богатырь?
– Да мы рязанские.
– А я из Малороссии!
– А я новгородский!
– Добрые воины, добрые! Смотрите под ноги, не падайте! Тут не на плацу, не на лошадке.