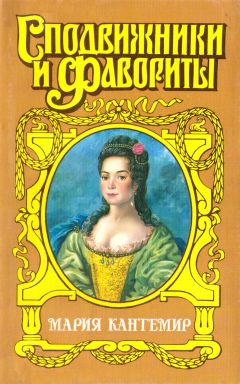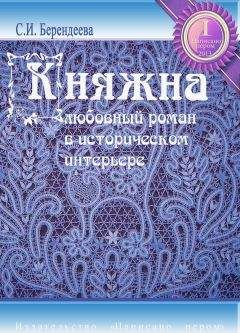«Стара, страшна, брошена», — мрачно твердила она про себя и отныне решала довольствоваться только ролью старшей сестры, следящей за домом и воспитанием братьев.
Мачеха давно уехала в дом Трубецких и, насколько слышала Мария, принимала ухаживания бедного, как церковная мышь, гессенского принца, служившего в русской армии.
Он аккуратно являлся к Трубецким, напрашивался на обеды и ужины, поглощал несметное количество пищи, никогда не давал себе труда что-то объяснить или принести хотя бы полевой цветок.
Он ходил так к Трубецким пятнадцать лет — его спокойно принимали, отдавали должное его аппетиту и не решались отказать от дома: слишком уж был знатен этот принц, тощий и высокий, церемонный и молчаливый...
Сестру свою, Смарагду-Екатерину, Мария тоже давно не видела: мать не отпускала её в дом мужа, и звали девочку все Катенькой, а о молдавском её имени не было ни звука.
Мария сокрушалась всего более из-за того, что сердце её точил червь убеждённости — не будет потомства Кантемиров на земле, ведь не стало же её сына, который мог бы поселить в ней уверенность, что проклятие визиря не действует, что это были лишь пустые слова.
Но она надеялась, что четверо её братьев станут мужьями, отцами и распадётся магическое кольцо заклятия.
Только тогда, когда она немного окрепла и обрела способность вновь разговаривать властным, не терпящим возражений голосом, решились ей сказать, что во время болезни её навещал царь, приказал перебираться в северную столицу, потому что он сам позаботится об устройстве её братьев.
Сердце её тревожно забилось: неужели не забыл, неужели даже теперь, после нескольких лет полного забвения, выплывет она из его памяти и он будет добр и милостив к её братьям из-за отца, из-за неё самой? Ей не хватало смелости снова мечтать, она не гляделась в зеркало, махнула на себя рукой, носила лишь тёмные траурные платья, даже не спрашивала ни у кого, какие фасоны модны нынче при дворе, какие шляпки и чепчики. Ей было безразлично всё это — она уже прошла тот период, когда хотелось блистать, но блистать в глазах только одного человека, другие её не интересовали — они были всего лишь тенями в её жизни, появлялись и исчезали, безмолвные, не оставляющие никакого следа в её памяти.
И уговаривала себя: надо слушаться государя, надо покоряться его приказам, но боялась даже мечтать, чтобы вновь не впасть в эту чарующую лихорадку под названием любовь. Она много читала, узнала всю новейшую европейскую литературу и братьев своих приобщала к этому. Но внимательно и искренне внимал ей только младший, Антиох, — старшие подросли, уже были приняты на службу, хотя ещё и не служили, а заканчивали домашнее образование: царь ввиду потери кормильца и отца разрешил им не принимать участия в военной службе до окончания их образования...
Что ж, переселяться так переселяться — назначил государь ей проживание в Петербурге, сколь ни дорога, ни холодна там жизнь, а придётся покориться. Так не хотелось ей ехать в Петербург, что она всё лето откладывала отъезд и лишь в начале осени собралась...
Дом в Петербурге уже был приготовлен заботливыми слугами к приезду семьи, и Мария с удовольствием осматривала тёплые и светлые комнаты, хорошенькую ученическую, привольную кухню, где жарко горели начищенные днища медных сковород и кастрюль, как и в Москве развешанных по стенам возле большого очага.
И мельком неожиданно увидела чьё-то лицо в дне кастрюли — яркое, смелое, вызывающее, оно словно бы напоминало собой кого-то. Слегка искажённое изображение пропало, едва она отошла от кастрюли, и Мария вдруг поняла, что это она сама, что она похорошела и что теперь уже стоит посмотреться в зеркало.
Долго вглядывалась княжна в своё отражение на гладком поле зеркала — неужели это с снова она, свежая, сияющая, смугловато-розовая, с весёлыми зелёными глазами, с пунцовыми, прихотливо изогнутыми губами? Где же тёмные пятна на щеках, где синие круги под глазами, где побледневшие губы и морщинки около рта?
Ничего этого не было — на неё смотрела спокойная красавица с роскошными локонами, выбивающимися из-под всегдашнего чепчика, с тёмными полукружиями бровей, вздымающихся над яркими зелёными глазами.
Мария не узнавала себя и то смеялась, то строила рожи своему отражению — не могла поверить, что опять стала той же красавицей, что и была три года назад.
И она распахнула окна в своём петербургском доме — хоть и пришла осень, и в самом разгаре листопад, и жёлтые листья падают в её открытое и продуваемое холодным ветром окно, но ей казалось, что снова наступила весна, что не зимняя скучная пора грядёт за этим жёлтым листопадом, а цветущее лето с яркими головками синих васильков и качающимися тонкими стебельками лютиков...
В душе её впервые за долгое время поселились покой, мир, она теперь жила в ладу с самой собой, старалась не вспоминать о вещах, для неё ушедших в даль времён, — о своей любви, о своём погибшем сыне и умершем отце, — она вновь стала весела и нарядна...
Однажды утром, широко распахнув окно, хоть и дул в него сильный северный ветер, княжна услышала равнодушные громкие слова глашатая, читавшего какой-то царский указ.
Едва разбирая слова, она высунулась из окна подальше и начала напряжённо вслушиваться в слова манифеста:
«1724 года, в пятнадцатый день, по указу Его Величества и Самодержца Императора Всероссийского объявляется во всенародное ведение: завтра, то есть 16-го числа сего ноября, в 10-м часу пред полуднем, будет на Троицкой площади экзекуция бывшему камергеру Виллиму Монсу, да сестре его Балкше, да подьячему Столетову Егору, камер-лакею Ивану Балакиреву — за их плутовство такое: что Монс, и его сестра, и Егор Столетов, будучи при дворе его величества, вступали в дела, противные указам Его Величества, не по своему чину укрывали винных плутов от обличения вин их и брали за то великие взятки — и Балакирев в том Монсу и прочим служил. А подлинное описание вин их будет объявлено при экзекуции...»
«Боже мой, — подумалось Марии, — я ведь знаю этого Монса, щёголь и фат, ещё спорила с ним в оценке литературных опусов европейских, и вот будет экзекуция». В чём провинился этот изящный дамский сердцеед? Она и сама получила от него нежную цидулку, написанную латинскими буквами, но русскими словами, и долго хохотала над ней, так и не ответив изящному поклоннику...
И тут же решила: надо пойти поглядеть на этого тощего франта, увидеть, как судьба распоряжается людьми...
Утром, едва только рассвело, она в сопровождении двух слуг отправилась на Троицкую площадь и безмерно удивилась: вся площадь была заполнена народом, её коляска не могла проехать, ей пришлось спуститься и прокладывать себе дорогу в толпе с помощью слуг.
Однако она пробралась возможно ближе к эшафоту, уже сооружённому на Троицкой площади. Высокий помост открывал собравшимся страшное зрелище палача-ката в красной, словно факел, рубахе, с острым топором за поясом, расхаживавшего по эшафоту. Тут же примостились трое его помощников, вытягивая из чана с солёной водой длинные заскорузлые кнуты, пропуская их ремни сквозь пальцы и стряхивая капли солёной воды прямо на помост.
Они горделиво выставляли себя напоказ — это был час их торжества, их работы, ими любовался и их страшился весь народ, собравшийся в такой ранний час на площади.
У края эшафота вытянулся длинный толстый шест с заострённым концом — на этот шест взденут голову казнённого, и она много месяцев будет пугать горожан.
Мария стояла долго и уже приготовилась к тому, чтобы покинуть эту площадь, и даже ругала себя: зачем пошла, стой вот теперь среди черни, среди грубых и любопытствующих людей, которым не в диковину эти мрачные зрелища.
Но раздались крики, всадники на конях замаячили в толпе, разгоняя её кнутами, и развалюха телега стала пробираться к месту казни. На скамейке посреди телеги сидел человек в нагольном тулупе, с обнажённой головой, он не смотрел на толпу, на эшафот и словно бы уже умер — настолько равнодушными были его взгляд и лицо.
Мария узнала Монса, но это было не напомаженное и надушенное лицо щёголя и франта, теперь это был измождённый и бледный лик мученика, прошедшего через все мыслимые унижения.
Она ахнула — нет, это вовсе не тот Монс, который написал ей любовную цидулку по-латыни, но русскими словами, не тот, кто сочинял стихи, не тот, кто безумно нравился всем дамам.
И Мария снова попыталась было уйти, но толпа так сдавила её и её слуг, что они не смогли выбраться и вынуждены были просмотреть всю церемонию экзекуции.
Следом за Монсом ехала такая же телега, в которой сидела простоволосая, в рваной шубейке всесильная Матрёна Балк, а за ней пешком шли ещё двое. Их Мария не знала...
Медленно, едва переставляя ноги, поднялся бывший камергер на высокий помост, следом взобрался протестантский пастор, отпустил ему грехи, перекрестил его и предоставил палачу делать своё дело.