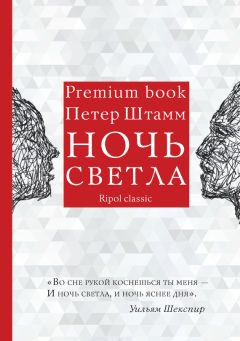Несколько часов спустя стало известно, что Либерио казнен. После этого дон Альваро стал выезжать из крепости крайне редко — либо в окружении многочисленной охраны, если направлялся в церковь, либо в маске, если его влекли городские увеселения. Однажды его узнали и забросали камнями, после этого он больше не покидал замка. Народ с ненавистью смотрел на крепость Святого Эльма, этот нависший над городом кулак Его Католического Величества.
Анна каждый вечер посещала церковь доминиканцев. Злейшие враги отца смотрели на нее с жалостью, когда она проезжала мимо. Она просила открыть ей придел и неподвижно сидела там, не находя в себе сил даже для молитвы. Те, кто посещал церковь в этот поздний час, глядели на нее через решетку, но не решались произносить ее имя, опасаясь нарушить покой этого существа, напоминающего надгробную статую.
Подумали было, что она примет монашеский обет. Однако этого не произошло. Внешне жизнь ее не переменилась, но она соблюдала строгий, почти монастырский распорядок дня и всегда носила власяницу, чтобы не забывать о своем грехе. Она больше не хотела спать на прежнем, просторном ложе и распорядилась поставить рядом с ним узкую жесткую кровать. Очнувшись от тревожного сна, она озиралась и понимала, что одна. Тогда она приходила в отчаяние, твердя себе, что все растаяло, как сонная греза, что у нее не осталось никаких свидетельств, что в конце концов это изгладится из памяти. А потом погружалась в воспоминания, чтобы пережить все снова. Будущего для себя она не видела. Ее одиночество было столь безутешным, что она обрадовалась бы событию, которое в подобных обстоятельствах пугает большинство женщин.
В город вернулся королевский наместник граф Оливарес. Он вызвал Дона Альваро к себе и сказал ему прямо:
— Вы ведь знали, что я дезавуирую этот приказ. Дон Альваро поклонился. Оливарес продолжал:
— Не подумайте, будто я делаю это в собственных интересах; Я только что получил от короля письмо, он отзывает меня в Мадрид, а вскоре, думаю, меня призовет к себе более могущественный властитель.
Он не лгал. Он был болен, весь раздут водянкой. Он сказал еще:
— Маркиз де Спинола собирается воевать во Фландрии, и ему нужен помощник, который хорошо знает Нидерланды. Вы когда-то сражались в этой провинции. Сейчас мы отправляем туда через Савойю деньги и солдат. А во главе этого отряда будете вы.
Это была ссылка. Дон Альваро простился с Оливаресом, поцеловал его дряблую руку и задумчиво произнес:
— Ничто не имеет цены.
Вернувшись домой, он приказал Анне готовиться к отъезду.
Последние дни своего пребывания в Неаполе дон Альваро провел в благочестивых размышлениях и молитвах в монастыре Святого Мартина, величавой крепости веры, расположенной по соседству с его собственной. Анна занялась сборами. Дошло до комнаты дона Мигеля. Анна не подходила к этой двери с того дня, когда Мигель рассердился на нее из-за конюшего. Войдя, она едва не лишилась чувств: давняя сцена снова разыгралась перед ней. Мигель заставлял себя быть грубым, его смуглые щеки раскраснелись от гнева, от избытка жизни. Комната, где все еще лежала дорогая упряжь, была пропитана запахом кожи. Она понимала, что это самообман, и все же твердила себе: тогда еще не случилось непоправимого, тогда все могло повернуться иначе. Она упала замертво. Служанки открыли ставни, ей стало легче дышать. Но слабость не проходила, пока она не вышла из комнаты Мигеля.
Из предосторожности дон Альваро решил отправиться в путь ранним утром. Служанки одевали Анну при свечах. Затем спустились вниз с сундуками. Оставшись одна, Анна вышла на балкон, чтобы посмотреть на город и на залив в белой утренней дымке.
Была середина сентября. Опершись на балюстраду, Анна взглянула вниз, на места, которые были связаны с определенными событиями в ее жизни и которые ей не суждено больше увидеть. Справа, за крутым склоном холма, лежал остров Иския, где два задумчивых ребенка вместе читали по складам страницу из «Пира» Платона. Налево проходила дорога в Салерно, терявшаяся вдали. Вон там, близ порта, — церковь Святого Иоанна, где она встретилась с Мигелем в последний раз. А там, среди крыш, террасами сбегавших к морю, — колокольня церкви Святого Доминика Арагонского. Поднявшись наверх, служанки увидели, что их госпожа лежит на смятых простынях огромной постели, вся во власти какого-то волнующего воспоминания.
В парадном дворе замка ждала дорожная карета. Анна покорно заняла место напротив отца. Слуги нового коменданта, вносившие в дом мебель и посуду, переругивались с лакеями дона Альваро. Карета тронулась. Когда они проезжали по безлюдному в этот час городу, Анна попросила остановиться на несколько минут перед церковью Святого Доминика, двери которой только что открылись. Дон Альваро не стал возражать.
Время шло. Маркиз начал терять терпение. Он послал служанок поторопить Анну. Вскоре она вышла
Лицо ее было закрыто покрывалом. Она села на место, не проронив ни слова, суровая, равнодушная, бесстрастная, словно оставила в церкви свое сердце как приношение по обету.
Донна Анна сама сочинила эпитафию брату. Надпись на надгробии гласила:
LUCTU МЕО VIVIT
Далее следовали имя и титулы усопшего по-испански. А ниже, на цоколе, было написано:
ANNA DE LA CERNA Y LOS HERREROS
SOROR
CAMPANIAE CAMPOS PRO BATAVORUM CEDANS
HOC POSUIT MONUMENTUM
AETERNYM AETERNI DOLORIS
AMORISQUE[5].
Инфанта Изабелла была признательна Эгмонту де Виркену, аррасскому дворянину и командиру самолично набранного им вооруженного отряда, за то, что он из своих денег заплатил солдатам давно задержанное жалованье; кроме того, ей было известно, что военачальники ценят его звериную отвагу в бою. Однако этот француз, считавший своим долгом церемонно изъясняться по-испански — так кружевной воротник изящно маскирует скрытый под ним железный панцирь, — был из тех людей, которые кажутся двуличными чуть не с рождения и которым достаточно подмигнуть, чтобы их сочли за предателей. Эгмонт де Виркен и в самом деле не чувствовал никаких обязательств перед краснобаями-итальянцами и испанскими бахвалами, этими надменными нищими, среди которых были и бастарды, выхвалявшиеся перед ним благородством своей подпорченной крови. Он еще рассчитается с ними за намеки на его новоиспеченное дворянство, а если ему не повезет на этой службе, или переменится политический ветер, то всегда можно будет переметнуться на сторону французов.
Однажды по пути в лагерь в Брабанте герцог Пармский, которому предстояло на следующий день вместе с Виркеном явиться на прием к инфанте, бегло изложил своему подчиненному суть происходящих событий. Семь северных провинций неминуемо отпадут; у Испании, еще не опомнившейся после гибели Армады, не хватит кораблей, чтобы защитить столь протяженное побережье, где под дюнами спит вечным сном так много моряков. А внутри страны горожане, разумеется, хранили верность его величеству. Правда, признался он, казне трудно будет рассчитаться за военные поставки с богатыми аррасскими купцами, торгующими сукном и винами (мать Виркена была из купеческой семьи). Однако стать кредитором короля, добавил он, дело не только почетное, но и выгодное: когда галионы вернутся из Америки, долг будет выплачен с лихвой. Виркен улыбнулся и ничего не ответил.
Затем хитрый итальянец как бы между прочим заметил, что среди приближенных инфанты есть несколько молодых, красивых испанок, которых она из политических соображений желает выдать замуж за фламандцев; такой союз позволил бы знатному, но не имеющему поддержки при дворе человеку занять подобающее положение в окружении герцога и его августейшей супруги. Виркен не собирался жениться, однако мысль о такой блестящей партии показалась ему соблазнительной. Он осторожно сказал, что подумает.
Инфанта поздно вышла замуж, одевалась с монашеской строгостью и охотно предписала бы своим менинам скромность и благочестие. Однако она позволяла им носить драгоценные уборы, как положено знатным особам, не противодействовала невинным развлечениям, не запрещала принимать ухаживания тщательно отобранных молодых дворян: проводимая ею политика примирения нуждалась в выгодных брачных союзах. Быть может, она испытывала зависть, глядя в их смеющиеся или полные детских слез глаза, не омраченные мыслями о снабжении войск, движении флотов, состоянии крепостей. Вечером дождливого дня, сидя у высокого камина, она меланхолично разглядывала своих фрейлин, выбирая среди них будущую жертву. Она завела разговор о преданности королевскому дому, покорности Божьей воле. Девушки старались уклониться от ее испытующего взгляда: те, у кого были любовники, боялись их потерять; Пилар, Мариана или Соледад в душе молили Бога, чтобы выбор пал не на них.
Но инфанта повернулась к девушке, которая прибыла к ее двору позже остальных. К тому же Анна де ла Серна в свои двадцать пять лет была и самой старшей. Она носила траур по брату, павшему три года назад под знаменами короля, и ее траурное одеяние, сшитое из великолепных тканей, было роскошным.