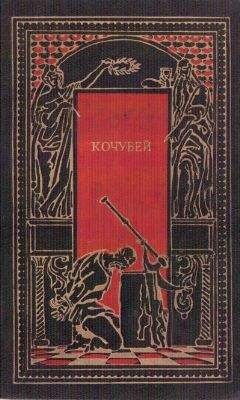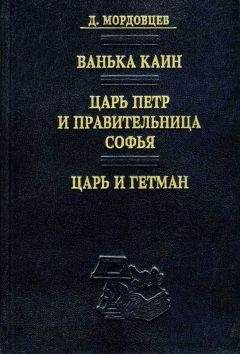— Спасиби вам, — первою заговорила девушка, обращаясь к тому, который оказался находчивее прочих. — Чи вы не забились?
— Ни, Мотрона Василивна, — отвечал тот, не смея взглянуть на девушку. — Простить нас, Бога ради, мы вас налякали.
— Як вы? Вы тут не винни…
— Ни... се наши играли... Се мы, дурни, его рассердили... Тильки не кажить, буде ласкави, панове гетьманови, що вы злякались...
— Не скажу... на що казати?.. Я не маленька…
— Щире дякуемо... А то вин нас со свиту сжеве...
— Не бiйтесь... А оце вам роза за те, що вы смилый козак.
И девушка подала ему розу. Молодой сердюк взял её, повертел в руках, понюхал и воткнул за околыш шапки.
— О, якiй лицарь! — засмеялись товарищи.
— Козинячiй лицарь. — пояснил тот, кому досталась роза.
Девушка также засмеялась. Она не знала, что этот «козинячiй лицарь» будет играть важную роль в её жизни... Это был Чуйкевич...
Пройдя мимо часового, ходившего около крыльца гетманского дома, девушка из светлых сеней вступила в большую приёмную комнату, увешанную оружием и бунчуками. На пороге встретил её огромный датский пёс, видимо, обрадовавшийся гостье.
— Здоров, Цербер, — сказала Мотрёнька, гладя красивое и ласковое животное. — Пан дома?
Пёс радостно залаял, услыхав про пана, которым он эти дни был недоволен: эти дни пан такой хмурый, сердитый, что как ни виляй перед ним хвостом — он не замечает этого собачьего усердия и ничем не поощрит его.
Из приёмной девушка отворила дверь в следующую комнату и приостановилась на пороге. Это была также довольно просторная комната со стенами, украшенными картинами и портретами. Одна стена занята была стеклянным шкапом с книгами, я вдоль другой на полках блестело серебро и золото. Сайгачьи головы с рогами, кабаньи морды с огромными клыками и чучело громадного орла довершали украшенье этой комнаты.
Остановившись на пороге, девушка увидела знакомую широкую спину и такой же знакомый, плоский седой затылок. Мазепа, нагнувшись над столом, рассматривал лежавшую на нём ландкарту.
— Од Днипра за Случ, а там за Горынь, а там за Стырь и Буг до самого Кракова... Так, так... А од Кракова Червоною землёю до Коломiи, а од Коломiи до самого моря... Ото усе наше... Де била сорочка та прямый комир, то наше... Ох, бисова поясниця! — бормотал старый гетман, водя пальцем по карте.
— Добри день, тагу... Здоровеньки були, — тихо сказала девушка.
Согбенная спина старика мгновенно выпрямилась. Он обернулся, и хмурое, усталое угрюмо-болезненное лицо его осветилось радостной улыбкой. По серым, глубоко запавшим глазам прошло что-то тёплое...
— Се ты, ясочка моя... Спасиби, доненько…
У старика дрогнул голос, он остановился... Девушка быстро подошла к нему и поцеловала руку.
— Помогай би, тату, — ещё тише сказала девушка, — що вы шукаете там? — Она указала на карту.
Старик, взяв её за руки и грустно глядя ей в глаза, так же тихо отвечал:
— Могилы соби шукаю, доненько.
— Якои могилы, тату любый? — и у неё голос дрогнул.
— Глыбокои, глыбокои, доненько, могилы, щоб почиваючи в нiй, моя сидая голова плачу людського не чула, шоб очи мои стаpiи, сырою землёю присыпанiи, не бачили больше твоей головки чернявенькой, щоб замист горя сумной едноты, в сердци моим черви-гробаки мишкали... Глыбокои, глыбокои могилы шукаю я, доненько моя.
В голосе старика звучала глубокая, тихая, безнадёжная тоска, словно бы в самом деле он хоронил себя... Девушка чувствовала, что к горлу её приливают слёзы... Она крепко сжала старые руки.
— На що могилу!.. Не треба могилу, таточко... Не треба вмирати... Що болит у вас?
— Душа болит, доню... Прискорбна душа моя даже до смерти, — говорил старик, садясь около стола и усаживая около себя девушку. — Для чого я живу? Кому на корысть, на утиху? — продолжал он как бы сам с собою. — Ни дитей у мене, ни ближних... Ближнiи далече мене сташа, и аз в мире семь точiю в пустыне пространной... О! Ты не знаешь, дитятко, яке то велико горе, сиритство старости! Яки довги, страшни ночи для старика безридного!.. Оце ходишь, ходишь по пустых покоях, слухаешь витру або лаю собачого, ждёшь сонця... а сонце прiйде, и воно не грiе... Так лучше в домовину, та в могилу, щоб не бачить ничого и ничого не чути. Де мои други и искреннiи? Нема их! Один Цербер друг мiй и товарищ, пёс добрый и вирный... Буде з мене и пса, бо я гетьман, игемон великiй народу украиньского... Та Господин Боже Miй! И Бог Саваоф, игемон видимого и невидимого мира — и той не одни, и той в Тройци. А я, я один, один, як собака!
Он остановился. Девушка грустно си топила голову, машинально перебирая цветы, положенные сю на стол.
— Се ты мени, доню, на могилу принесла? — тихо спросил Мазепа, дотрагиваясь до цветов.
— Бог з вами, тату! — с горечью сказала девушка и тихонько смахнула слезу, повисшую на реснице.
— Бог... Бог зо мною... истинно... А ты знаешь, дочко, что есть посещение Божие? — как-то загадочно спросил, он.
— Не знаю, тату.
— Ох, тяжко Его посещение!.. Посети Бог мором и гладом... Огнём посети Бог страну, вот что есть посещение Божие!.. А мене посетив Бог горькою самотою.
Острою болью по сердцу проходили эти безнадёжные слова одинокого старика, эту острую боль чувствовала девушка в своём сердце, и слёзы копились у неё на душе... Бедный старик! И власть, и богатство, и почёт — всё есть, а душа тоскует... Девушка не знала, что сказать, чем утешить несчастного...
— А вы б чаше до нас ходили, тату, — сказала она, не зная, что сказать.
Мазепа горько улыбнулся и опустил голову.
— До вас?.. Спасиби моя добра дитина.
— Далибы, таточку, ходить... А то он вы яки... могилу шукаете... Мене вам и не жаль...
И девушка вдруг расплакалась, Она припала лицом к ладоням, и слёзы так и брызнули между пальцами.
Старик задрожал, эти слёзы ребёнка не то испугали его, не то обрадовали...
— Мотрёнько! Мотрёнько моя! Дитятко Боже, сонечко моё весиннее, рыбочко моя, — бормотал он, сжимая и целуя чёрненькую головку. — Не плачь, моя ясочко, ластивочко моя! Я не вмру, я не хочу вмирати... Я буду довго, дсвго жити... Подивись на оцю бумагу, — и он поворачивал плачущую голову девушки к лежащей на столе ландкарте, — подивись оченятами своими ясенькими... Я не могилу шукав соби, ни! Я мир я в нашу Украйну-неньку... Она яка вона! Дивись, як вона разлаглася: од Сейму до Карпатив и от Дону до самой Вислы... Оце всё наше буде, доненько моя, всё твоё буде... Ты хочешь, щоб вино всё твоё було? — спросил он, загадочно улыбаясь.
— Як моё, тату? — девушка отняла руки от заплаканного лица и глядела на старика изумлёнными глазами.
— Твоё, доненько... Оце всё твоё буде: и Батурин, и Киев, и Черкасы, и Луцк, и Умань, и Львив, и Коломия, и вся Червона Русь, и Прилуки, и Полтава, всё твоё, як они твоя запасочха червонепька, як оци твои корали на шiйци биленькiи… Тоби жалко мене, дочечко моя?
— Жалко, тату.
— И твои очнията карiе плакатнмуть на моей могильци?
— Тату, тату!
Девушка опять заплакала. Мазепа опять начал утешать её.
— Ну, годи-годи, серденько моё, не плачь... Я не буду... Подумаем лучче, що маем робити... Мы ще поживемо... Коли ты хочешь, щоб я жив, я буду жити.
— Хочу, таточко...
— И ты будешь до мене старого ходыти, як теперь прiйшла, рыбочко!
— Буду... хочь кожен день…
— И ты не скучатимешь с старым собакою?
— Ну, яки бо вы, тату!
— Так не скучатимешь?
— Не скучатиму... я таки буду жити з вами.
Опять загадочным светом блеснули старые, помолодевшие глаза гетмана.
— А твои батько й мати? — нерешительно спросил он.
— Та то ничого... вин добрый... А мати, може, й вони ничого...
— А сама ты хочешь до мене?
— Та хочу ж бо! Яки вы!
Мазепа задумался. Он хотел ещё что-то сирость, но не решился.
— Так будемо жити, — сказал си после непродолжительного молчанья. — Ты глени даси и здоровье, и мододiи годы... А я вже думав кинчати мои писеньку... А писня моя тильки ще зводиться...
Куда девалась и подагра, и хирагра! Мазепа бодро заходил по комнате. Седая голова его гордо поднялась, и просветлевшие глаза глядели куда-то вдаль...
— Чи чит, чи лишка?.. Чи Петре, чи Карло, — бормотал он, нетерпеливо встряхивая головою, словно бы на неё садилась докучливая муха. — О, Семёне, Семёне Палию... мы ще не мирялись с тобою... Помиряемось... чи чит, чи лишка... О, моё сонечко весиннее!..
Семён Палий... Почему Мазепа вспомнил о нём при воспоминании о Петре и Карле? И почему он желал бы с ним помериться?