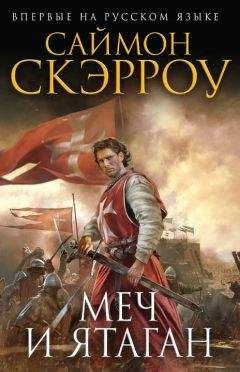– Сию минуту, – сказала она, не двигаясь с места.
При слове "аналогичную" хозяйка так потерялась, что Робертино на всякий случай добавил:
– В это время суток я обыкновенно шутить не расположен.
Дорогие магазины автоматически приводили Робертино в состояние невинной простонародной ярости.
Екатерина Васильевна Энгельгардт-Скавронская, родная племянница Потемкина, еще не Таврического, но уже светлейшего, лежала между тем на оттоманке, укрывшись соболями.
Павел Мартынович прошел на половину жены. Боясь спугнуть очарование, приоткрыл дверь и всунул круглую голову.
– Тю-ша! – осторожно позвал Павел Мартынович.
Нет ответа.
– Тю-ша! – громче сказал граф, перенес тело через порог и притворил за собой дверь. – У меня сюрприз.
Катя отложила книгу и нехотя посмотрела на мужа. Все его сюрпризы она знала наперечет. От свадебной кареты, украшенной стразами с куриное яйцо, до ливонских устриц того же размера.
– Ну что, папа? – лениво сказала она.
– Тюша, ну почему – "папа"? – обиженно сказал Павел Мартынович, приближаясь.
Екатерина Васильевна зевнула и кошечкой потянулась:
– Папа, ну почему "Тюша"?
Павел Мартынович подхватил на лету руку и поцеловал.
– Рыцарь, эт самое! – сказал Павел Мартынович. – Живой, прямо с Мальты. Ты рада?
– Очень, – сказала Екатерина Васильевна, сладко кутаясь в меховой кокон. – Позови няню, папа.
– Тюша! Так ты оденься к обеду, да? – он все не выпускал ее руки. – Ну почему "папа"?
– Скажи няне – про Кащея Бессмертного хочу. Что такое "оденься"?
– Я же говорю, Тюша, рыцарь, – потупился Павел Мартынович. – С Мальты. Настоящий.
– Живой?
– Красавец! Глаза – из Равенны. А то ты все грустишь да грустишь… Чтобы тебе веселее было…
Екатерина Васильевна нахмурилась, но тоже нехотя:
– Ну я же просила, папа! Чтобы мне было веселей – никого не приглашать!
Павел Мартынович жадно представил себе под мехом линию ее тела с поджатыми ногами в кружевных чулках и сглотнул.
– Да так ведь от тоски и помереть недолго! – в сердцах сказал он, непоследовательно бросая кисть жены на произвол. – Встань и оденься к обеду!
Екатерина Васильевна, подложив ладонь под щеку, смерила мужа скучающим взглядом.
– Вы хотите сказать – разденься? – протяжно уточнила она. – Можно… Можно только один вопрос?
Павел Мартынович раскрыл было рот. Так ерепенистый ялик, самонадеянно залетев в высокие широты, вдруг наскочит на айсберг… И только когда в борту уже зияет пробоина, сообразит, что зарвался.
– А правду говорят, что у вас в роду еще недавно было принято пороть жен на конюшне? – сказала Екатерина Васильевна, и бархатистые глаза ее сверкнули.
– Катя! – умоляюще сказал Павел Мартынович.
И вдруг понял, что уязвило его во взгляде рыцаря. В красивых, влажных глазах Джулио, посаженных широко и свободно, бился огонь юности, какого Павел Мартынович не мог уже подарить любимой Катюше…
Посол грустно и осуждающе поглядел на жену, развернулся и вышел из комнаты.
Родословная Павла Мартыновича Скавронского являла собой ту смесь величия и анекдота, блистательным воплощением которой явился в жизни сам Павел Мартынович.
В 1724 году Дмитрий Михайлович Волконский, дед и полный тезка нашего посла со "Святого Николая", ехал по Лифляндии на почтовых по делам Посольского приказа. Ямщик попался пьяный, ленивый и хамоватый. Получив за халатность в зубы, возница заявил:
– Сестре скажу, она покажет в морду драться.
Дмитрий Михайлович старший онемел.
– Что ты пробубнил, хам? – цепенея от ярости, спросил граф, пятерней разворачивая к себе холопа за воротник тулупа.
Сказать, что физиономия в треухе просила кирпича, – ничего не сказать.
"Померещилось, что ли?" – подумал граф.
Однако на станции решил от безделья расспросить чухонца. Выставил полуштоф, ямщик разомлел и, поскребя под тулупом запотевшую грудь, высказался в стихах:
– Сестрица-анператрица – что грудь, что ягодица.
Дмитрий Михалыч было заслушался.
Ямщик хлопнул еще стопку и доверительно перешел на прозу:
– А была ить дура дурой. Сами-то мы – Хведор…
Закончить речь ямщик не успел.
До Валги в возке ехали уже два пассажира – граф Волконский и "сами они Хведор", связанный, правда, по рукам и ногам и окривевший на левый глаз.
Дело пошло по Тайной канцелярии, Ягужинский доложил Толстому, Толстой – Петру, Петр велел вчинить розыск, не доводя до государыни.
По окончании розыска граф Толстой не знал, радоваться или плакать.
"Хведор" оказался единокровный брат царствующей императрицы Екатерины Алексеевны I, в девичестве – Марты Самуйловой. Той самой Марты, приемной дочери мариенбургского пастора Глюка, каковую геройски пленил прямо у алтаря фельдмаршал Шереметев. Вскоре, как известно, пленился за ужином у Шереметева уже светлейший князь Меншиков. А следующий плен занес чухонку Марту в такие дали, куда Федору пришлось бы погонять семь верст до небес, и все лесом.
Мало того: как только Толстой спустился с царских высот до лифляндских корней – родственники стали плодиться, как сыроежки. Выискался еще другой брат царицы – по имени Карл, родной дедушка нашего Павла Мартыновича. И две сестры, обе к тому же замужем. И ладно бы просто замужем, а то у младшей – Симон-Генрих, у старшей – Михель-Иоахим.
– Крестьяне Симон-Генрих и Михель-Иоахим! – звучно произнес Толстой, уставившись в оловянный оконный переплет. – На барщину послать – язык не повернется. Прямо хлебопашцы какие-то!
Счастливо подвернувшееся слово решило исход дела. Прочитав в донесении "хлебопашцы", царь Петр закашлялся.
– Где ты у чухонцев пашни видел? – рукавом отирая глаз, осведомился царь. – Да еще с хлебом? Ладно, гони всех сюда.
Угодили аккуратно после обеда, когда царица имела обыкновение вздремнуть.
У Екатерины Алексеевны при виде группы родственников в нагольных тулупах сон как рукой сняло.
Михель- Иоахим молча поднес и с глухим стуком прислонил к царице мешок воблы с Алуксненских озер. Симон-Генрих, ни жив ни мертв, путаным речитативом отстукал от лица семьи приветствие, в конце неожиданно присовокупив, что стропила совершенно прохудились.
Царица, поглаживая мешок с воблой и про стропила как следует не разобрав, спросила, как поживает старая коптильня. И устремила взгляд в туманную девическую даль.
Симон- Генрих, оживившись, ответил, что не сегодня завтра рухнет. Брат Карл вставил, что, ежели бы просто рухнула -полбеды. А так она еще и весь скот намедни передавила. И смахнул непрошеную слезу.
Брат Карл был сентиментален. Сентиментальность, наряду с любовью к животным, передал по наследству – вплоть до героя нашего романа Павла Мартыновича.
Каким образом скот попал в рыбную коптильню – разобраться не успели. Поскольку Михель-Иоахим тут вдруг уже прямо заявил, что все на корню сгорело "почем зря и стропила рухнули, пропади оно все пропадом!" – и хлопнул шапкой об пол.
Сестры захлюпали носами. Кучер Федор, удивившийся было веренице напастей, жалобно поглядел на Волконского и тоже закручинился.
Волконский отчетливо помнил стадо сытых холмогорок в родовом самуйловском гнезде и ломящееся от пшеницы гумно. Правда, на месте стропил в памяти зиял досадный пробел. Но на всякий случай тоже устремил на царя взгляд, исполненный мольбы.
Царь, стоявший в сторонке, увлажненным взором обвел группу родственных душ.
– Стропила, говоришь? – сказал он, оживленно выступив вперед и обращаясь почему-то к Волконскому. – А домекратом пробовали?
Царица укоризненно поглядела на мужа.
На чем и расстались. Царь Петр велел местным властям озаботиться и хлебопашцев Самуйловых ни в чем не обижать. Напоследок подарил группе подвернувшегося жаворонка в золоченой клетке.
Родственники аллегории не поняли. Зато прямой смысл до Михеля-Иоахима дошел моментально: в случае нужды за клетку можно было выручить на Валгинской ярмарке табун понурых и злобных чухонских тяжеловозов.
Волконский за бдительность получил нововведенного Александра Невского – вероятно, в силу географической близости событий.
На обед к русскому послу Джулио явился в черном. Отложной белый воротник из кружев был сработан на Гозо – меньшем острове Мальтийского архипелага.
Любимые лайковые сапоги хозяина с боковой шнуровкой Робертино после обеда аккуратно нагладил утюгом по воску, не забыв плотнее прижать отвороты, как любил юный граф.
Из украшений Джулио надел орденскую подвеску с малой золотой короной над крестиком, и скромный орденский знак только ярче оттенил изысканную простоту костюма.
Джулио ехал на работу.
Коробку для ангела велел обернуть в парусинку и наказал Робертино с коробкою до поры не высовываться. "Театр", – хмуро думал он, выуживая из сундука серебряный свисток. В театр Джулио с детства ходил по принуждению.