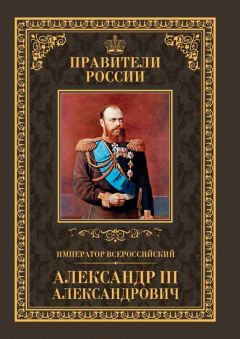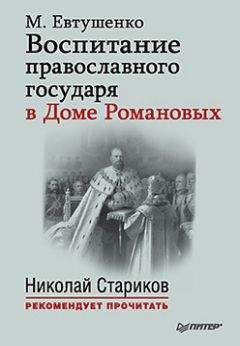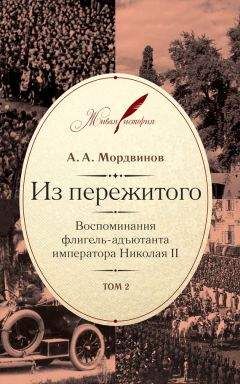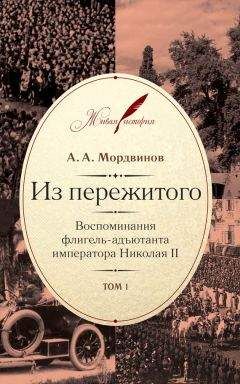– Говорил ли с вами Фреди о моём предложении? – наконец решился наследник.
– Каком? – удивилась принцесса.
– Я прошу вашей руки! – выпалил он.
В то же мгновение Минни бросилась к нему и повисла на его шее. Целуя её, он поднял лёгкую, словно пушинка, невесту и подошёл к дивану. Минни села на валик дивана, а он вжался всем огромным телом в угол, не смея поверить в своё счастье. Между поцелуями он, задыхаясь, спросил:
– Так вы можете любить меня после моего милого брата?
– Любить? – отвечала она. – Никого, кроме его любимого брата!
Он сжал её в объятиях и прошептал:
– Милый Никса! Он очень помог нам! И, конечно, он теперь молится о нашем счастье!
Лёгкий стук прервал их поцелуй. Вошла королева. В слезах, огромный русский принц обнял и поцеловал её. Она сразу поняла всё и тоже заплакала. В комнате появились Христиан IX, братья Владимир и Алексей, принцы Фреди и Вольдемар. Целуя Минни на глазах у всех, наследник, ещё в слезах, проговорил:
– До встречи в России, моя дорогая невеста!
День тянулся как месяц, месяц пролетал как день. Уже всё было готово к свадьбе, обновился и похорошел Аничков дворец, их будущее гнёздышко. Считая, что ремонт движется слишком медленно, цесаревич как-то за один день самолично оклеил весёлыми обоями её спальню. Каждый вечер он горячо молил Бога приблизить день встречи с душкой Минни. И вот этот день настал!
От вокзала и до Зимнего дворца были выстроены войска. Вереница золочёных карет двигалась под приветственные клики народа. В первой карете сидела его Минни с мамá, а сам наследник, как начальник конвоя, ехал подле неё верхом, держа в правой руке обнажённый палаш. Светские и церковные церемонии слились в один радужный праздник. Великий князь двигался, разговаривал, улыбался – и всё как во сне. Где-то тенью прошелестела – было или не было? – фрейлина Мещерская. И ни одна струна не отозвалась в его душе. Отчего? Может быть, оттого, что он был невинен и разве что уличён однажды в детском грехе, о чём с неодобрением в давние времена сообщал в письме к отцу дядя Костя. Но женщины? Он их не знал, и для него каждая была лучшей…
И вот он, счастливый, блаженный день! После утомительного ужина в Аничковом дворце остались только папá и мамá. Они с Минни пошли переодеваться. Мамá была с невестой, а вернее сказать, уже с его женой; папá давал последние наставления цесаревичу. Появилась мамá, и наследник обнял её и просил благословить его. Она, в слезах, перекрестила и поцеловала сына. Всплакнул и сам император. Наконец и родители ушли.
Согласно неукоснительному ритуалу, Романов-жених перед брачной ночью должен был надевать серебряный халат и туфли из серебряной парчи. Халат весил шестнадцать фунтов и мог показаться тяжёлым. Александр подкинул халат на руке и нашёл его совершенно необременительным. «Кольчуги были куда тяжелей», – подумал он. Гораздо сильнее давила на плечи наследника необходимость ждать.
Александр облачился в серебряный халат и нервно ходил по кабинету, ожидая, пока Минни закончит свой туалет. Он испытывал мучительное волнение. Его била лихорадка, и наследник едва держался на ногах.
– Саша… – услышал он далёкий голос. – Иди… Я жду…
Цесаревич прошёл в спальню, ключ прыгал в его руках. Он запер двери. В её комнатах уже было всё потушено, и лишь у постели горела одна свеча. Как хороша, как неотразимо хороша была его маленькая Минни – на белоснежных подушках ещё контрастнее лежали её тёмные курчавые волосы, и таинственно мерцали большие голубые глаза. «Нет, такого чувства у меня уже никогда не будет!» – сказал себе наследник и опустился перед кроватью на колени. Сердце, кажется, готово было выпрыгнуть из груди. Минни обняла его за шею, и они тихо поцеловались.
– Я буду любить тебя… не так, как другие любят… Я буду любить только тебя! Тебя одну! – как заклинание, повторял Александр.
Он встал и начал читать молитву:
– Господи, благослови! Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняли, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очтисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша…
Потом наследник погасил свечу, снял халат и туфли.
Он лёг в постель на спину и сперва даже не понял, что его маленькая Минни оказалась сверху, обвилась вокруг его тела, заставила сладко и больно застонать.
– Дурачок! Сашка! Какой хороший дурачок! – страстно шептала она.
И он отвечал ей со стонами и придыханием:
– Моя единственная! Моя собственная жена! Моя душка Минни!..
Студенческая вечеринка в дешёвых нумерах Келлера в Мерзляковском переулке была, как обычно, бестолковой, пьяной, со ссорами и громкими пустыми речами. Гуляли медики, в большинстве – дети или внуки священников, и, конечно, все – атеисты и материалисты.
Скинув свои пледы и чёрные картузы в углу, они сгрудились вокруг стола, уставленного бутылками пива, скромными закусками, однако с непременной четвертью водки[31] и кипящим самоваром. Кто сидел в обнимку с модистками, кто и за выпивкой не расставался с книжкой, кто серьёзничал с курсистками, одетыми под пажей, стрижеными, в очках.
– Я никак не могу справиться с мёртвым мясом, – стесняясь, говорил худой студент с тёмным иконописным лицом соседу, огромному украинцу, не выпускавшему из своих лап хорошенькую, хотя уже очень помятую блондинку. – Представляешь, купил у сторожа крошечного ребёнка и стал его дома резать. И не могу понять, что у меня под ножом? Я содрал кожу, и обнажилась какая-то круглая красноватая зернистая масса. Но ведь это не мускулы?
Украинец стряхнул девушку с колен и захохотал:
– Ты, Левко, худо читал анатомию! Это жир!..
– Такой красный и толстый, Шульга?
– А ты думал? Как у того порося. Его нужно снять, прежде чем дойдёшь до мускулов…
– Фи! Какие гадости вы говорите! Да ещё за столом! – жеманясь, проговорила девушка.
– Брось, Фрузя! – крикнул басом Шульга. – Лучше вообрази, какой чудак есть на свете – Спенсер[32]. Он утверждает, что атеизм, теизм и пантеизм, как гипотезы, объясняющие сокровенную сущность и происхождение вселенной, одинаково логически несостоятельны. Ведь выдумал же такую штуку… Ха-ха-ха!
Евфросинья сморщила своё милое порочное личико:
– Ну, уж вы всегда придумаете какую-нибудь глупость!
– Да, это верно, Фрузя. Иди лучше я тебя обниму…
Лев Тихомиров[33], приехавший в Москву из тихой Керчи, был конфузлив от природы да к тому же не имел в первопрестольной своего землячества, что усиливало ощущение одиночества. Воспитанный в религиозном духе, он с неодобрением, смешанным, впрочем, с завистью, поглядывал на Шульгу. Весёлый, общительный хохол уже успел рассказать ему, что происходит от запорожца, укравшего некогда красавицу из гарема самого султана, за что ему и отрубили правую руку. Отсюда и фамилия Шульга – левша по-малоросски. «Вот хват! – думалось Тихомирову. – Ведь талантливый парень, а чем живёт? И какие, однако, студенты циники!»
– Читали ли вы «Эмиля XIX века»[34]? – вдруг обратилась к нему одетая в мужское платье курсистка, обнажая в улыбке плохие, прокуренные зубки.
Тихомиров зарделся. Хотя наделавшую изрядного шума книгу Альфонса Эскироса добросовестно проштудировал и даже просмотрел отзыв на неё Шелгунова[35], он от смущения пролепетал:
– Не довелось…
– А жаль. У него замечательно глубокие места… Например, вот это… – Она порылась в книжице, лежавшей тут же, рядом со стаканом пива. – «Женщина есть форма, в которую отливаются новые поколения».
Она торжествующе посмотрела на Тихомирова, чем привела его в совершеннейшее замешательство. Спас положение, сам того не подозревая, всё тот же Шульга, бесцеремонно дёрнувший Тихомирова за рукав форменного сюртука:
– А знаешь, Левко, что со мной вечор случилось? Было избиение вифлеемцев…[36]
– Как так? – обрадовался Тихомиров, живо повернувшись спиной к курсистке и откидывая длинные волосы.
– Вернулся домой пьяный в дупель и наделал, признаться, скандалу. Хозяин послал за полицией. И я – о, лышенько! – Тут украинский геркулес потянулся всем могучим телом. – Представь, поколотил городового. Тот позвал товарищей на помощь, и меня поволокли в участок. По дороге я дрался отчаянно, дубасил городовых. И меня тащили до участка целых два часа. А ходу туда, знаешь, пять хвылин. Натурально, завладевши мною, воротили мне с процентами все затрещины. Били, можно сказать, не на живот, а на смерть. Ну а в общем я славно размял кости…
Шульга встал, и половицы жалобно заскрипели, прошёлся по сырой, вонючей комнате, затем налил себе полстакана водки, опрокинул в рот и заполировал её пивом.