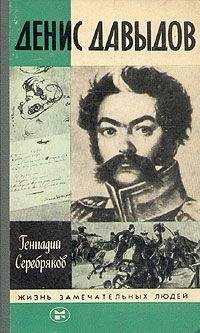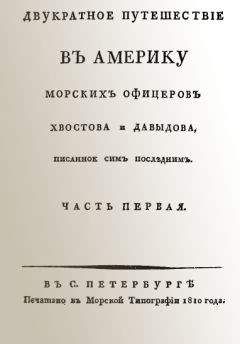В первопрестольной по-своему торжествовал Иван Владимирович «со товарищи». Все сколь-нибудь значительные градоправительственные должности переведены были масонам. Еще крепче прежнего взяли «братья» в свои руки и рассадник будущих умов общественных и государственных — Московский университет: директорство над ним было передано старому улыбчивому масону Ивану Петровичу Тургеневу (отцу будущих декабристов), а полное и безраздельное попечительство над благородным пансионом, учрежденным при том же университете в 1797 году, взял на себя верный и преданный семинарист и выкормыш Шварца Антон Антонович Прокопович-Антонский. Преподавание и заведование кафедрами в обоих учебных заведениях отдавалось людям соответственным.
Посему и ездил Иван Владимирович Лопухин и в университетские горницы на Моховую, где тут же при храме наук размещалось в эту пору семейство Тургеневых, и в крашенный желтою краской длинный и приземистый особняк на Тверской (на месте нынешнего Центрального телеграфа), в котором учились и обитали юные благородные пансионеры, ровно в свою вотчину, где его негласные советы и наставления имели великое почтение и силу...
Однако больших масонских надежд Павел I не оправдал. Видимо, почувствовав в масонстве, таящем в себе глухую и страшную антиобщественную силу, опасность для своей короны, он охладел к «братьям». Открытой войны «вольным каменщикам», как его мать Екатерина, он не объявлял, но потворствовать им более не желал, а сверх того понемногу стал чинить всяческие препоны.
Предчувствуя надвигающуюся опасность, Павел I становился все более подозрительным и желчным, не доверял уже никому, в том числе и супруге своей Марии Федоровне, и спешно возводил в Петербурге для себя внушительное убежище — Михайловский замок, а по сути, настоящую боевую крепость с куртинами, бастионами и глубокими рвами, заполненными водой. Однако даже эта вновь отстроенная и почти неприступная в военном отношении твердыня не спасет его, как известно, от скорой лютой расправы заговорщиков...
Не последнюю скрипку в подготовке цареубийства через своих родственников, приближенных ко двору, и других сановных «братьев» сыграет и величественный московский старец, с довольно свежим, еще розовым и твердым лицом, в снежно-белом, гладком на старинный манер, лишь с одною подвитою волнистою скобкою вкруг головы парике и красною орденскою лентою по-старинному же, шитому по груди и узкому стоячему вороту камзолу — Иван Владимирович Лопухин, который в один из необычайно теплых мартовских дней 1800 года в своей выписной карете13, запряженной шестернею цугом, после заезда с визитом в давыдовский дом на Пречистенке, прихватит с собою Дениса и привезет его в благородный пансион для знакомства с юными членами литературного кружка, на заседаниях которого, устраиваемых каждую среду, он так любил бывать на правах «почетного члена, споспешествующего Собранию».
Конечно, в эту пору Денис Давыдов ни о каких масонских кознях, равно как о принадлежности ко многим из них своего вельможного родственного сопровождателя, не имел ни малого понятия. Кое-что он узнает впоследствии от своих близких друзей и двоюродных братьев, кое в чем разберется сам, научившись вдумчиво озирать прошедшее и сопоставлять и анализировать события и факты. Многое для него, вероятно, так и останется тайною. Однако к деятельности «вольных каменщиков», которую он назовет «зловредным немецким бунтом», он всегда будет настроен резко отрицательно. И не случайно, когда его двоюродный брат — известный декабрист Василий Львович Давыдов туманно предложит ему вступить в их тайное общество «по подобию масонов», он решительно откажется.
Представления Ивана Владимировича Лопухина оказалось достаточным, чтобы юные литераторы «Собрания» сразу же радушно приняли в свой круг чуточку смущенного и дичившегося поначалу Дениса. Председательствовал среди своих товарищей миловидный мальчик с тонким, удлиненным, бледным лицом и томным, мечтательным взором, уже признанный среди прочих стихотворец — Василий Жуковский. Он-то и назвал своих приятелей — толстого и рыхлого Александра Тургенева, угловатого и нервного Семена Родзянко, смугловатых и быстроглазых братьев Кайсаровых, самого младшего, беленького, схожего с херувимом 12-летнего баснописца Ваню Петина и других. Здесь же, в сторонке, рядом с Лопухиным, восседал, рассыпав по плечам темные длинные власы, с молчаливым аскетическим протодиаконовским ликом и сам директор пансиона Антон Антонович Прокопович-Антонский, прозванный пансионерами «Три Антона».
— Цель «Собрания» нашего, — сказал Денису Жуковский, — исправление сердца, очищение ума и вообще обрабатывание вкуса. На заседаниях своих мы читаем по очереди речи о разных, большею частью нравственных предметах на русском языке, разбираем критически собственные сочинения и переводы, а также знакомимся с образцовыми отечественными сочинениями в стихах и прозе, с выражением чувств и мыслей авторских и с критическим показанием красот их и недостатков. Впрочем, надеюсь, что вы во всем разберетесь сами, ежели будете бывать у нас на дружеских «Собраниях»... Сегодня, к примеру, мы будем вести речь о тех творениях воспитанников пансиона, кои готовятся к напечатанию в первой книжке нашего альманаха «Утренняя заря».
Потом Жуковский произнес нерифмованный монолог «К надежде», в котором провозглашал мысль, что в бренном и скоротечном мире все тщетно, окромя упования на божественные начала, которые человек призван некою силою отыскать в себе самом.
Лопухин и «Три Антона» благожелательно кивали головами.
Следом Александр Тургенев меланхолично и монотонно зачитал свой прозаический перевод «Песнь на случай открытия синагоги, сочиненную В. Бинком, семнадцатилетним евреем».
Затем свои басни «Осел и Лев на звериной ловле» и «Солнечные часы» несвойственным его виду густым басовитым голоском продекламировал «херувим» Ваня Петин, какие-то стихотворные опыты и переводы читали братья: Кайсаровы и Семен Родзянко...
Но более всего произвело на Дениса впечатление, пожалуй, то, что эти мальчики, его примерные сверстники по годам, а ежели, взять «херувима» Петина, то и того младше, называют себя «пиитами», «авторами», и впрямь так лихо умеют завить вроде бы привычные словеса, что они разом обретают и особый строй, и звучность, и сладкогласие. Он слушал стихотворные строки своих новых знакомцев и невольно ощущал, как в душе его просыпается какое-то неведомое до сей поры, но, видимо, исподволь томившее его душу стремление самому попытаться выразить свои мысли и чувства в слове.
Воодушевленный примером сверстников-пансионеров, Денис дома тут же закрылся в своей комнате и попробовал тоже испытать свои силы в сочинительстве. Однако, оставшись наедине с бумагой, он с пугающей тоскою убедился, что все слова и мысли, которые перед тем так лихо вились и роились в его голове, куда-то разом исчезли, а радостное предвкушение чего-то волнующего и необычного, готовое вот-вот раскрыться в первом его творении, сменилось в душе ознобною звенящею пустотою. Сколько он ни черкал бумажные листы и ни грыз перья, ничего не получалось.
Тогда Денис решил обратиться к переводу. Отыскал какую-то французскую пастораль и попробовал изложить ее русскими стихами:
Пастушка Лиза, потеряв
Вчера свою овечку,
Грустила и эху говорила
Свою печаль, что эхо повторило:
«О, милая овечка! Когда я думала, что ты меня
Завсегда будешь любить,
Увы, по моему сердцу судя,
Я не думала, что другу можно изменить!»
Перечитав несколько раз то, что получилось, с печалью убедился, что слог его тяжел и неповоротлив, а слова бледны и невыразительны.
Впрочем, скорое печальное событие, больно ударившее по сердцу, на какое-то время целиком заслонило от него и новые московские знакомства, и первые стихотворные опыты. Из северной столицы пришла горестная весть о кончине Суворова.
Скорбь, без сомнения, была всенародной. Однако со стороны властей опять творилось что-то непонятное. Официальные сообщения о смерти героя Италии генералиссимуса всех Российских войск были на удивление кратки и сухи, а потом и того более — вдруг последовал строгий запрет на траурные панихиды в церквах по умершему. Это казалось Денису невероятным, волна горечи и обиды захлестывала разум. Как же так? Что же произошло? Ужели переменчивая Фортуна так легко может отворачивать свой сияющий лик даже от таких великих героев?.. Эти вопросы не давали покоя.
В событиях, без сомнения, ускоривших кончину Суворова и лишивших его даже заслуженных посмертных почестей, ветреная Фортуна была повинна, пожалуй, менее всего. За ее мифическою изящною классическою фигурой и ниспадающими мягкими складками покровами маячили, как всегда, вполне реальные и отнюдь не бескорыстные личности.