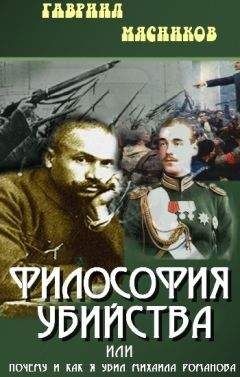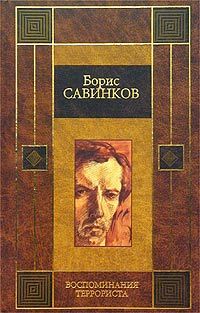Рассвело. За Охтой вспыхнуло веселое пламя, и пурпурно-огненные, золотые лучи брызнули в комнату. И стало еще мертвее, еще неприютнее, точно солнечный блеск обнажил дряхлеющие морщины старчески изжитого лица.
Чувствуя, что он осуждает свою, как казалось ему, беспорочную жизнь, Болотов в последний раз попытался отогнать неугомонные мысли. «Почему Арсений Иванович спокоен? Для него все просто и ясно. Революция – арифметическая задача. Ваня идет, умирает. Хорошо. Слава партии! Разделение труда… И Берг тоже спокоен.
А ведь они, как и я, отвечают за кровь. Или, может быть, нет? Может быть, Ваня один отвечает за все? Кто же прав?… «Я перед вами как на духу…» Ваня передо мною как на духу… А я перед ним? А мы перед ним? Для нас он либо «герой», либо «фанатик террора», либо – и это хуже всего – «поклонник бомбочки», «неразумный бомбист»… Так где же, наконец, правда?…»
Точно так же, как Болотову, Давиду было близко знакомо тревожное хозяйское чувство. Но не партия казалась ему хозяйством. О партии он знал очень мало: то шутливое и неважное, что пишут в партийных газетах. Он знал, что во всех концах великой России есть люди, дорогие товарищи, которые ненавидят то же, что ненавидит и он, и требуют того же, чего требует он. Он знал также, что во всех городах «работают» комитеты и что этими комитетами, их, как он думал, «государственными делами», ведают в Петербурге достойные, многоопытные и умные люди. Этим людям он верил на слово. Он не посмел бы спросить, кто они и кто им дал их неограниченные права. Было достаточно успокоительного сознания, что на свете есть кто-то: Болотов, Арсений Иванович, доктор Берг и что этот державный «кто-то» неусыпно блюдет партийные интересы и ущерба их не допустит. Так как он не знал партии, то она представлялась ему сильнее, значительнее и чище, чем на самом деле была. Сложным и цветущим хозяйством казался ему его город, уездный, маленький комитет. Его не смущало, что в городе почти не было революционеров. Он думал, что этот именно комитет – исключение, что в других, более счастливых городах тысячи самоотверженных партийных людей и что, случись на месте товарищей, – вольноопределяющегося Сережи, солдата Авдеева и акушерки Рахиль, – Болотов или Арсений Иванович, хозяйство пошло бы иначе, еще удачливее и лучше. Он думал, что тогда не три десятка солдат, а весь озлобленный полк присоединился бы к партии и не несколько рабочих кружков, а все фабрики в полном составе слушали бы ученые лекции о Марксе. Но даже и такое хозяйство доставляло много забот. Дни безрадостно уходили на мелкую пропаганду, на печатание комитетских листков, на мышиную беготню по партийным делам. Погруженный в эти заботы, он не видел, что кругом была горемычная уездная жизнь, чужая и темная жизнь попов, купцов, чиновников и крестьян той невидимой и всемогущей толпы, от которой и зависит последнее, побеждающее усилие – исход революции. И он слепо верил в несокрушимую силу партии и точно так же, как Болотов, ждал с упованием «грозного дня», как он говорил «возмездия и гнева».
Вернувшись из Петербурга домой, Давид прямо с вокзала пошел к своему другу, вольноопределяющемуся Сереже.
Он миновал Московскую улицу и уединенную Соборную площадь. Потянулись длинные пустыри, пространные огороды, убогие, вросшие в землю дома. Слезилось тусклое небо. Хмурились, намокнув, березы. В городском саду распускалась сирень. День был вялый. Стоял июнь, но пахло осенью, сентябрем.
Давид не замечал ни дождя, ни уездных будней. «Какой Болотов славный, – думал он, стуча сапогами по мокрым мосткам, – и Арсений Иванович славный, и все… А вот я, Давид Кон, я исполню веления Божий, я погибну за революцию, погибну за партию, за землю и волю… Как славно… Как хорошо… И, конечно, восстание будет удачно, иначе Болотов бы не разрешил…» Ему казалось теперь, что Болотов разрешил и что разрешение это – закон. И еще казалось, что один Болотов знает, что он умрет и что он один жалеет и ценит его. И хотя он напрасно старался представить себе свою казнь, свою виселицу, своего палача, свои предсмертные дни в тюрьме, и хотя смерть была для него только словом, лишенным значения, ему все-таки стало жалко себя. «Ну, что ж; двум смертям не бывать, а одной не миновать», – тряхнул он русыми, курчавыми волосами. «Прекрасны шатры твои, Иаков, и жилища твои, Израиль…»
– Что хорошего? – встретил его Сережа.
– Ура! Разрешили!
Сережа, высокий, загорелый солдат в расстегнутой белой, с малиновыми погонами рубахе, посмотрел на него с удивлением.
– Чему же ты рад?
– Как чему? – всплеснул руками Давид. – Странно… А если бы не разрешили? Что тогда? Ну?…
Сережа взял со стола папиросу, не спеша зажег спичку, закурил и, наконец, спокойно ответил:
– В лес дров не возят.
– Что значит?
– А значит то, что и без Петербурга решили.
– Без Петербурга?
– Ну да.
– Кто решил?… Как?…
– Солдаты решили…
– Что? Что?… Да говори, Бога ради…
– Ничего… Завтра…
– Завтра?
– Да, завтра.
– Не может этого быть…
Сережа пожал плечами.
И, как это всегда бывает, когда страшное, но еще далекое становится неотвратимым и близким, Давид почувствовал, что все, что он думал раньше о смерти, не имеет цены, как не имеют цены досужие и безответственные слова. Он почувствовал незнакомую и неодолимую тяжесть, точно кто-то пригнул его плечи низко к земле. «Завтра… – опомнился он. – Не через месяц, не через неделю, а завтра… Господи, дай мне силы… Господи, завтра…»
– А комитет? – промолвил он глухо.
– Что комитет?
– Комитет решил?
– Конечно, решил.
– Странно…
– Что странно?
– Да как же так, без меня?
– Без тебя? Прапорщик Воронков вчера на карауле ударил Авдеева.
– Ну?
– Авдеев дал ему сдачи.
– Ну?…
– Ничего… Расстреляют Авдеева.
Давид бессильно опустился на стул. Звонко пел потухающий самовар.
За окном, сквозь мутную сетку дождя, зеленели уныло-дряблые огороды.
– А ты? – спросил, наконец, Давид. – Что я?
– А ты за восстание… Что ж ты молчишь… Ну, чего ты молчишь?
– Все это зря, – сказал Сережа тихо, – зря люди погибнут… Но наше дело не рассуждать…
– Наше дело не рассуждать, – повторил, как эхо, Давид.
– А идти, – докончил Сережа.
– А идти, – повторил Давид.
– Да, идти. Я и ты наденем офицерскую форму. Утром, рано, до поверки, пойдем в четвертую роту. Меня там знают. Попробуем поднять полк. Солдаты, если не врут, поддержат.
– Та-ак… – нерешительно протянул Давид.
– Понял?
– Да, понял… Та-ак… Послушай…
– Что?
– Послушай, ведь я – еврей…
– Ну?
– Хорошо ли мне офицером?
– Как хочешь.
Оба примолкли. Все так же звонко пел самовар. И вдруг Давид неожиданно почувствовал пьяную радость. Точно совершилось желанное, то, что снится только во сне. «Да, да, я умру… Умру за партию… Да…» – думал он. Его серые, встревоженные глаза потемнели… Он вскочил и в волнении забегал по комнате. Остановившись перед Сережей и, по обыкновению, заикаясь и махая руками, он заговорил пылко, в каком-то самозабвении:
– Велик Бог отцов наших… Помнишь у Некрасова, Сережа:
Средь мира дольнего
Для сердца вольного
Есть два пути…
Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твердую,
Каким идти.
Вот мы и идем, и дойдем, и умрем… И дух наш не будет уныл, и сердце наше не онемеет… Не так? Не так ли, Сережа?… В прошлом году я был на погроме… Была у нас оборона, человек двадцать. В первый день вечером наш отряд – я в первом отряде был – на хулиганов наткнулся. Темно. Слышим: погром. Чей-то дом грабят. Кто-то кричит, дети плачут… Саша Гольденберг был. Командует: пли!.. В ответ пули свистят. Саша опять: пли!.. Разбежались громилы. На другой день, суббота была, я и Саша Гольденберг в штабе отыскали квартиру, один адвокат дал, заперлись в ней и ждем. Первый отряд пошел на базар, второй – за Заставу, а третий с нами остался. Ну… Ну, сидим мы у адвоката. Ждем. Две ночи не спали. Сон клонит. Скучно… Хочется кушать… К окну подойти нельзя: того и гляди казаки подстрелят. Оборона, кто где: на стульях, на полу, на кроватях, дремлют себе. Час так проходит. Ну, два… Ну, может быть, три… Нового ничего… Тишина… Стало смеркаться. Огня не зажгли, чтобы с улицы не было видно. С утра не ели, хочется спать… Хозяин войдет, посмотрит, вздохнет… Тоска… Вдруг, уже совсем вечер был, телефон. С Кирилловской улицы, купец, ребе Фишель. А Кирилловская, знаешь, совсем на отлете, и наших там ни души. Я телефону: «Что вам, реб Фишель?» По голосу слышу: трясется. «Давид, говорит, это вы?» Я говорю: «Я». – «Давид, милый Давид, громилы идут…» – «Далеко?» – «Уже на Кирилловскую завернули…» Я говорю: «Ша… Ничего… Ждите…» Обернулся я к обороне: «Вставать!» Кто и спал, тот сразу вскочил. Через минуту уже никого, только хозяин вздыхает. Телефон все звонит. «Что надо?» – «Давид, ради Бога, Давид… если вы хороший еврей…» Я говорю: «Оборона выслана. Обождите». – «Благословен Господь, буду ждать…» Через пять минут телефон: «Давид…» – «Что надо?» – «Давид, где оборона?… Громилы за пять домов… Жгут… У меня дети…» Знал я его хорошо, Фишеля этого. Толстый, красный такой купец, деньги нам иногда давал. Знаю: стоит он там, бедный, трясется… Ну, что ты скажешь?… У него дети… Я говорю: «Детей и супругу запрячьте куда-нибудь, ну, на чердак или в погреб…» Повесил я трубку, думаю: а вдруг оборона да опоздает?… Что тогда? Выйти в поле и выть?… Через минуту звонок: «Боже, Боже… добрый, сердечный, милосердный Господь Израиля!..» – «Где дети?» – спрашиваю. А у него и голоса нет: «Дети в… в… в… погребе… де-ти…» – «Ждите, говорю, и надейтесь: оборона в пути». А сам думаю: да, в пути, а если встретят… Ну?… Что тогда?… Опять телефон: «Погром уже рядом, через два дома…» Что скажешь делать? Заметался я, совсем голову потерял… А телефон все звонит, звонит, звонит, звонит… Взял я трубку: «Ну, что?…» Слышу, лает он по-собачьи: «Авв… авв… авв-ва… Давид… Велик Господь!.. Давид… авв… Господи… Помогите!..»