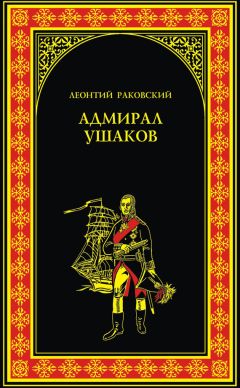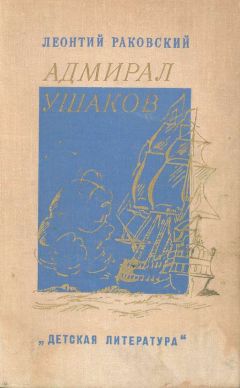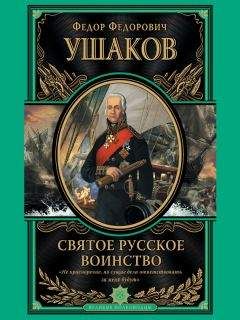А Любушка клялась, обещалась ждать жениха, не забывать о нем…
Ушаков вздохнул и сказал:
– Что ж поделаешь?.. Значит, так держать!
И вот настал день отъезда в Таврово. Ушаков уезжал ранним утром на шлюпке. Любушка и Марья Никитишна пришли провожать его. Хотя, кроме матросов, рабочих, грузивших на баржу разные припасы, на пристани не было никого, Федя, как всегда на людях, чувствовал себя стесненно.
Ушаков никогда не был особенно разговорчивым, а теперь слова и вовсе не шли у него с языка. Он отвечал односложно на вопросы Марьи Никитишны и не спускал глаз с любимой девушки. А Любушка прижималась к нему, и в ее голубых глазах дрожали слезинки.
– Ваше благородие, шлюпка готова! – крикнул со шлюпки унтер.
Федя поцеловался с Марьей Никитишной и порывисто обернулся к Любушке.
Она, плача, упала в его объятия.
Ушаков прижал к себе эту хрупкую, тоненькую девушку. Слезы сдавили ему горло, но он сдержался.
Еще раз поцеловал ее и, ссутулившись, быстро пошел к шлюпке. Лицо его было хмуро. Брови сдвинуты плотнее обычного.
А матросы, катавшие с пристани на баржу бочки со смолой и бухты канатов, видя это прощанье, весело затянули:
Матрос в море уплывает.
Свою женку оставляет.
Вот калина,
Вот малина…
Закрепили паруса,
Прощай, любушка-краса!..
Эта всем известная шуточная песенка била, что называется, не в бровь, а в глаз.
– Феденька, погоди, возьми! – бежала сзади за Ушаковым Марья Никитишна, протягивая ему сверток с провизией.
Ушаков машинально взял сверток и прыгнул в шлюпку.
Пристань, берег, Воронеж, милая сердцу Чижовка стали удаляться.
Все уменьшалась и уменьшалась на берегу фигурка Любушки, машущей платком. И вот наконец она слилась с берегом. Федя так отчетливо, так ясно представлял себе глаза, рот, улыбку Любушки, каждую черточку ее милого личика, что ему казалось: стоит только протянуть руку – и вот она, улыбающаяся и любимая!
Но с каждым дружным взмахом весел гребцов Любушка удалялась от него все больше и больше.
За весь первый год командования прамом Ушаков был на берегу только один раз. В этот раз ему удалось отправить с оказией письмо Любушке. Он просил ее ждать, не забывать. Но обстоятельства складывались так, что пока ни о каком семейном устройстве думать было нельзя. Приходилось заботиться о другом: о выполнении порученного важного задания – охранять от врага устье Дона – и о вверенной Ушакову команде.
Ушаков был исполнительным, аккуратным подчиненным и потому командиром оказался требовательным и строгим. Начальник Азовской экспедиции вице-адмирал Сенявин оценил дельного, расторопного лейтенанта, давал ему разные ответственные поручения.
Ушаков безукоризненно выполнял их.
Свое морское дело Ушаков любил, был от природы деятелен, и работы у него всегда хватало, так что скучать не оставалось времени.
Он тосковал по Любушке и тревожился, не получая от нее никаких известий, но терпеливо переносил разлуку. Ждал, что когда-нибудь она все же окончится. Любушка, может быть, и давала о себе знать, но поймать Ушакова было нелегко; плавая два года по Азовскому морю и рекам, он нигде не засиживался долго.
До Азовской флотилии докатился гром славных Хиосской и Чесменской побед русского флота.
Чтобы заставить Турцию воевать на два фронта и тем самым помочь своей сухопутной армии, сражавшейся с турецкими полчищами в Молдавии и Валахии, Россия отправила из Балтийского моря в Архипелаг эскадру под командой вице-адмирала Григория Андреевича Спиридова.
Спиридов был талантливым, бесстрашным командиром. В боях у острова Хиос и в Чесменской бухте он уничтожил значительную часть всего турецкого флота.
Корабль «Три иерарха», на котором Ушаков, будучи мичманом, плавал в Финском заливе, тоже вошел в состав первой эскадры Спиридова. «Три иерарха» участвовали в знаменитых Хиосском и Чесменском сражениях, и теперь Федор Ушаков жалел, что его послали на Дон, а не оставили на «Трех иерархах».
Там, в Средиземном море, его товарищи дрались с сильным врагом и побеждали, а он здесь занимался скучным, невоенным делом – проводил караваны с лесом.
Летом 1772 года небольшие русские суда совершили первые переходы по Черному морю – прошли с депешами из Дунайской армии в Таганрог.
В это лето и Ушаков тоже впервые вышел на черноморские просторы.
Черное море не походило ни на одно из тех, которые знал Ушаков: ни на суровое, холодное Белое море, ни на скучное и серое Балтийское. Оно казалось необычайным.
Когда-то средиземноморские греки второпях обозвали его «негостеприимным» и лишь потом, приглядевшись к нему получше, стали именовать Понтом Эвксинским – «гостеприимным».
Турки же считали его черным: Кара-денгиз[18].
А оно было не столько черным, сколько синим, голубым, зеленым – разным. Оно переливалось всеми цветами, каждую минуту было неповторимо иным. Оно принимало тысячи различных оттенков: солнце, небо, облака, ветер, горы – все заставляло его изменяться.
Не похожими на иные были и прекрасные крымские берега.
Это дикое нагромождение голубых, розовых скал, стремительно падающих с поднебесной высоты в бирюзовую воду, в пенистое кружево буйного прибоя.
Эти небольшие заливы и уютные бухточки, защищенные каменными обвалами.
Эти причудливые гроты, спрятанные в расщелинах скал, обвитые вечнозеленым плющом.
И эти запахи полыни, чабреца и мяты, которые приносит с крымских гор легкий ветерок.
Черное море – то ласковое, то грозное – казалось Ушакову пленительно-сказочным синим морем, о котором он грезил с детства.
Ушаков увидал его только сейчас, но оно было знакомое, свое, Сурожское море…
Федор Ушаков плавал из Таганрога в Каффу[19] и Балаклаву, которая стала сборным местом для крейсеров, охранявших крымские берега.
Тихая Балаклава с ее уютной изумрудной бухтой полюбилась Ушакову.
«Вот, если бы не война, сюда можно было бы привезть Любушку!»
Но, несмотря на сухопутные победы Румянцова и занятие Крыма армией Долгорукова, турки никак не могли примириться с мыслью, что их господству на Черном море приходит конец.
А время незаметно летело – наступил 1774 год.
Суворовская победа у Козлуджи ускорила дело: летом 1774 года Турция была вынуждена заключить с Россией Кучук-Кайнарджийский мир.
Ушаков подал рапорт, прося отпуск «для исправления семейных дел». И в апреле следующего, 1775 года пришел приказ: лейтенант Федор Ушаков переводился в Санкт-Петербургскую корабельную команду, и ему предоставлялся трехмесячный отпуск.
Ушаков, разумеется, первым делом направился в Воронеж.
В ясное майское утро он приплыл к Воронежу.
Как всегда, город от реки был очень живописен. Крутые скаты и обрывы, изрезанные глубокими оврагами, маковки церквей и колоколен, дома, разбросанные всюду – на холмах и в долинах.
Вон «чудодей», как называли матросы цитадель. Вон дом губернатора. Пристань разрослась. Вокруг нее кучились склады и амбары.
Все это было так знакомо. Казалось, он уезжал отсюда только вчера, а ведь прошло пять с лишком лет! Ушаков заторопился. Он так со своим чемоданчиком и пошел прямо к Ермаковым. Ноги быстро несли его по ярам и через овраги. Вот и слободка, милая Чижовка. Издалека видны зеленые главы Троицы.
С каждым шагом все ближе к Любушке. И все сильнее бьется сердце.
Вот уже Церковная улица. Цел ли маленький домик?
Ура! Стоит на месте! Такой же! Те же кусты сирени, тот же обомшелый, позеленевший от времени забор.
Не изменилось ничего.
Может быть, Любушка сидит в палисаднике?
Он подошел ближе и увидал: по палисаднику ходила Марья Никитишна. Такая же высокая и статная, как была. И на плечах у нее та же старая персидская шаль.
– Здравствуйте, маменька! – не выдержал, окликнул он издалека.
Марья Никитишна оглянулась было назад, но вдруг, с криком: «Егорушка!» – кинулась куда-то в сторону. «Что это? Забыла, как звать?»
– Марья Никитишна, это я, Федя! – сказал он смеясь и подошел вплотную к забору.
Ушаков увидал: на дорожке сидел, плача (видимо, упал) маленький мальчик. Марья Никитишна утешала его, целуя.
Она взяла мальчика на руки и пошла к забору:
– Простите, Феденька, простите, милый! Видите: Егорушка упал. С приездом! Заходите, заходите же. Вот наши-то обрадуются дорогому гостю! Они оба пошли на рынок.
Ушаков стоял, онемев от удивления.
– Это – внучек, Егорушка. Любочкин сынок! – подбрасывала она мальчика, который уже смеялся сквозь слезы.
– Любушка… вышла замуж? – каким-то чужим голосом переспросил Ушаков. – За кого? Когда?
– За хорошего человека. За Метаксу, подрядчика. Да ведь вы его знаете… Вышла три года назад…
Ушаков больше не слушал. Он круто повернулся и не пошел, а почти побежал из Чижовки.
– Феденька, ты ли это? – окликнул кто-то Ушакова, когда он торопливо шел от кронштадтской пристани в город.