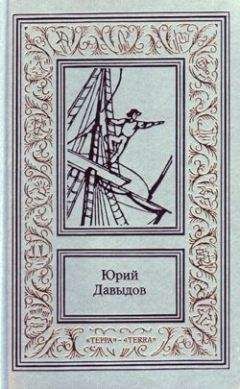– Так, – ответил Лопатин. И быстро прибавил: – Вот о домашнем-то и хотелось поговорить.
– Извольте. Бывает, что издалека видишь лучше. Но ежели не возражаете, мне б поначалу расспросить вас: я теперь не часто встречаю настоящих русских. – Он нажал голосом на это «настоящих», давая понять, что подчас эмигранты – увы, не совсем настоящие русские.
Герцен умел слушать, и это умение возбуждало охоту развивать высказанное. Отвечая, он размышлял вслух; размышляя, неторопливо подбирал слова, как бы испытывая их прочность и точность, а фразы укладывал кряжами.
Все это пришлось по душе Лопатину, но совсем нежданно возникло ощущение своего полномочного представительства. Ничего похожего не было в Петербурге. А сейчас, здесь… И почему-то пялишься как дурак на вертикальную складку, багрово метящую переносицу Александра Ивановича.
Зашла речь о Чернышевском, о романе «Что делать?». Ужасный слог, сказал Герцен, и ужасное презрение к форме. Лопатин, признаться, читая Чернышевского, именно это-то и отмечал неприязненно. Больше того, случалось, ловил себя на мысли: экое семинарское высокомерие, экая бурсацкая грубость. Но сейчас, сознавая себя «представителем», он не хотел соглашаться с Герценом и налег на громадное нравственное значение романа, созданного под сводами Алексеевского равелина.
– Не спорю, – кивнул Герцен, – есть удивительные отгадки, бездна хорошего, воспитательного, доброго, но форма, но слог… Я, знаете ли, статью надумал, критическую, да оставил.
– Почему же?
Герцен усмехнулся.
– А вот почему: испужался, что пушкинским Ванюшей сочтут. – Лопатин вопросительно шевельнул бровями. – Этот самый Ванюша большой был шалун – увидит порядочного человека, покажет язык и орет: «Урод! Нигилист!» – Лопатин расхохотался, запрокинув голову. Герцен, улыбаясь, смотрел на Лопатина – так смеются честные люди.
– А еще, Александр Иванович, еще к «уроду»-то следует прибавить «развратник», – заметил Лопатин. – Чтоб уж полный набор эпитетов к нашему брату.
– Да уж не без того, – кивнул Герцен. Опять ему понравился этот молодой человек. – А серьезно… Ежели без коросты, без парши и лишаев, то ведь в нигилизме-то есть отрицание холопского смирения и утверждение трезвого понимания. – Он призадумался и вдруг пристукнул кулаком по колену. – Но в статье-то своей я б непременно и на то указал, что наш романист льстил нигилистам, молодым льстил, как бы внушая, что они уже одним тем хороши, что – молодые. И я бы, извините великодушно, указал и на зачатки зла. – Он поднял обе руки с раскрытыми ладонями, как бы останавливая Лопатина. – Нет, все это и нужно бы, и можно бы, если б Николая Гавриловича Чернышевского не лишили возможности отвечать критику. – И многозначительно, испытующе взглянул на Лопатина.
Пахло мокрыми, осенними цветами, сигара Герцена бледно дымилась. Этот Лопатин, думал он, разумеется, нигилист чистокровный, но верно и другое: этот Герман – germanus, единокровный. Гарибальди провозглашал тост за юную Россию. Вот она, юная Россия. Высок и прекрасен порыв под знамена Джузеппе, но, боже мой, есть у нас свой остров Капрера и свой изгнанник середь нерчинских вьюг.
У ног Лопатина лежал солнечный блик.
– Александр Иванович… – Лопатин, подняв глаза, прямо и пристально смотрел на Герцена. – Александр Иванович, я знаю, найдутся люди, они сделают всё, чтобы вернуть России ее великого гражданина.
– Всё? – спросил Герцен.
– Всё! – ответил Лопатин.
И больше о Чернышевском ни слова.
Был молчаливый завет, и был молчаливый зарок.
Позвали обедать. За обедом Наталья Александровна спросила гостя, который ему год, Лопатин ответил, и Тата с видом шутливого превосходства объявила свое старшинство. Герцен, однако, потребовал у Лопатина точной справки, и тогда выяснилось, что Татино старшинство исчисляется несколькими днями, что они сверстники, оба январские, сорок пятого года, и от этого почему-то стало особенно хорошо, почти родственно.
У Герцена пробыл Лопатин весь день.
Александр Иванович утомился, раскашлялся, потирал горло, но Лопатин медлил откланиваться – не за семь верст пришел. Да ведь и заметно было, что Герцен как бы приник к нему: читают ли в России «Колокол»? Верно ли, что ожидается ужасный указ о казенных крестьянах? Ну а русские школы, что там и как? А русские студенты?..
Уже смеркалось, уже зажигали огни и крепче, чем утром, пахло йодистым морем. Лопатин стал благодарить и прощаться.
* * *
Удаляясь от Ниццы, но мыслью, ощущениями, сердцем обретаясь в Ницце, думал он о минувшем свидании. Многое высветило шире, яснее: и тщетность надежд смести российский политический балаган стрельбою в царя; и пагубную тину длительной эмиграции – за Россию держись до последней возможности и возвращайся в Россию при первой возможности. «Дельно! Дельно!» – вторил Герцен, когда Лопатин обозначал свой проект изучения народного хозяйства. Вот именно – изучения, отчеркнул Александр Иванович, а то ведь все повторяют «народ», «народ», а понимания нет.
Удаляясь от Ниццы, но все еще обретаясь в Ницце, читал Лопатин четвертый том «Былого и дум», последний том, выданный в свет эмигрантской типографией. Читал о торжестве мещан – прошли по трупам бойцов революции и упрочили свои нравы, упрочили свой уклад. Но печаль Герцена не печалила Лопатина: он еще не нажил ту мудрость, в которой много печали. Читал, наслаждаясь герценовской прозой – своевольной, неправильной, в родниковых соринках, бликах и тенях, выпуклой, как поток, когда приподняты заслонки плотины… Потом он незряче смотрел в окно на пажити Австрии, черные, с проплешинами первого снега, слышал и не слышал стук колес – он искал, ему хотелось найти слово, определяющее Герцена. И нашел: родной, совсем родной…
* * *
Дорога в Петербург взяла несколько суток.
Дорога в крепость – несколько месяцев.
Кто-то неробкий ухитрился начертать на ее вратах: «Здесь временно помещается Петербургский университет».
После выстрела Каракозова петропавловские куртины приняли немало долговолосых юношей в клетчатых пледах. В Вольтеры им дали фельдфебеля, аудитории заменили казематом.
Герман сидел тогда в Невской куртине. Сидел, уликами не обремененный. Попался, что называется, по чистой случайности, если последнюю считать разменной монетой закономерности. Он полагал, что почти каждый порядочный русский рукоположен в государственные преступники. Солдату умереть в поле, матросу – в море, крамольнику – в тюрьме. Сверх того он полагал, и опять-таки справедливо, что на сей раз в куртине не засидится. И посему перемещение с университетского Васильевского острова на казематный Заячий остров принял с легкостью, оскорбительной для фортификационной науки.
Теперь, два иль три месяца спустя после поездки в Италию и пешего хождения из Флоренции в Ниццу, Герман продолжил свой тюремный искус.
Не потому, что дома, на Владимирской, нашли при обыске карту Итальянского королевства. И не потому, что в Москве, в Кривоколенном, у его приятеля Волховского нашли недавно изданный том «Былого и дум». География Апеннинского полуострова, заявил арестованный Лопатин Герман, не наказуется законами Российской империи. Мемуары Искандера, заявил Феликс Волховской, доставленный на казенный счет в Петербург, он-де купил у неизвестной личности, не ведая о цензурном запрете, вообще-то, по его мнению, весьма странном в эпоху обновления России, возвещенного с высоты трона.
Следственная по делам политическим комиссия, высочайше утвержденная, отложив географию и мемуаристику в долгий ящик, сосредоточилась на другом.
Начать с того, что молодые люди собирали сведения об известном Чернышевском. Далее. Они усиленно залучали сочленов в общество, наименованное «Рублевым». Хотя Лопатин Герман и объяснил, что именно рублевый предполагался взнос, однако название, вероятно, маскировочное, призванное ввести в заблуждение следствие.
Целию преступного сообщества являлось: а) издание книжек для народного чтения; б) получение статистических сведений об истинном положении низших классов.
Нравственная физиономия кандидата университета Лопатина Германа, уже попадавшего в сферу наблюдения и дознания, а равно и нравственная физиономия Волховского Феликса, в сферу дознания еще не попадавшего, оставляли желать лучшего. Несмотря на обширный круг знакомств, возникший благодаря сообщительности, свойственной обоим арестованным, удалось выявить лишь нити, связывающие:
а) Лопатина Германа с сослуживцами по частному Обществу взаимного кредита, как-то: Николаем Даниельсоном, а также дворянином Михаилом Негрескулом и его женой Марией, урожденной Лавровой, дочерью бывшего профессора артиллерийской академии, сосланного в Вологодскую губернию;
б) Волховского Феликса, проживавшего в Москве, – с тамошними студентами, в том числе и со студентом Лопатиным Всеволодом, младшим братом арестованного Лопатина Германа.
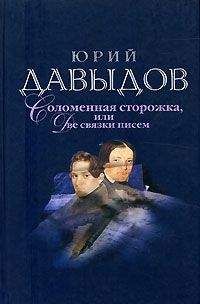

![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)