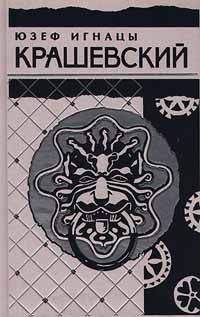её неверность, остаться верным своей клятве до смерти.
В эти минуты этот явившийся ему призрак любимой, освежённый, помолодевший, как бы очищенный от прошлого, аж до безумия его экзальтировал. Он должен был использовать всю силу и мощь характера, чтобы не броситься под ноги того призрака, но сидел рассеянный, как на горячих углях, горя и бледнея попеременно, молясь, чтобы обед как можно быстрей закончился и избавил его от этого испытания, которого боялся с каждой минутой всё больше.
Как наперекор, когда рюмки пошли по кругу, за здоровье хозяев, подкомория, подкоморины, прекрасной Миры, дочек, кузинок, каждого гостя в отдельности, «Будем любить друг друга» и «Лишь бы нам было хорошо» и т. д и т. д., не было конца виватам и сидению. Некоторые выскользнули, но главным особам не годилось встать из-за стола. Все немного были повеселевшими в этом розовом настроении, которое осмеляет, сближает и делает не слишком внимательным на то, что делается вокруг. Была это минута, выбранная прекрасной соседкой для попытки штурма покорённого уже и так человека. Она обратилась к пану Валентину с улыбкой и опьяняющим, слёзным и таким невинно смелым взглядом.
– Можете ли вы также любить такие шумные общества? – спросила она его потихоньку. – Я признаюсь, что хоть они в обычаях нашего края, вынести их не могу. Даже живя в столице, потому что я долго пребывала за границей и в Варшаве, ищу тихого уголка, чтобы поглядеть на свет. Не скажу, чтобы в нём не нуждалась, в этом свете, в котором движение, жизнь, в головах и сердцах которого кипит и готовится будущее, но это для меня сцена, которую я только из моего ложа хотела бы просматривать.
Пана Валентина опьянял её взгляд, опьянял звук голоса, заслушавшись, он блаженно улыбнулся, а когда кончила, в течение минуты он, казалось, прислушивался ещё. Ответ его был неотчётливый, слова путались на губах, думал, что кажется ей дивно обычным или необразованным, но он имел дело с женщиной, которая читала в мужчинах, как в открытых книгах. Она поняла, что впечатление, какое производила, подбадривало его – она торжествовала, поэтому с этим смущением он показался ей лучше, чем бы представился с самым большим остроумием.
– А! И вы не любите шума, – сказала она, – так я заранее догадалась по тому, что мне о вас говорили. Правда то, – добавила она живо, но опуская глаза и снижая голос, – что вы выезжаете в Варшаву и Львов?
– Да, пани, очень скоро.
– Я также не думаю тут долго пребывать, – шепнула она будто бы неспециально, а в действительности с глубоким расчётом, – возвращаюсь в Варшаву. Ведь могу иметь надежду, что вы будете считать меня там за хорошую знакомую и захотите навестить? Я живу одиноко, мало кто у меня бывает, развлекаюсь музыкой, книжками, имею маленький и избранный кружок, меня не связывают никакие обязанности.
– Как это, пани? – прервал неловко, выдавая себя, Валентин. – Вы…
Мира смело подняла на него глаза и, угадав вопрос, отвечала очень просто:
– Я была замужем, но уже нет. Я много претерпела и желаю остаться свободной.
Орбека не смог утаить радости, которая воспламенила его лицо. Мимолётным взглядом Мира ухватила её, но, казалось, что у него были опущены глаза и она не видит ничего.
Хотя привыкшая к лёгким победам, к чудесам, красивая пани удивлялась, однако, сама той, которую, очевидно, одержала в эти минуты – что-то для неё в этом было необъяснимое. Рассчитывала на гораздо более кропотливое завоевание, на сопротивление, на борьбу – этот лёгкий триумф её беспокоил, могла ли разочароваться в человеке?
Среди прерываемого разговора, на который обращены были только внимательные глаза женщин, рухнули стулья и лавки, все поднялись из-за стола. Орбека подал руку хозяйке, общество с рюмками, с песнями, с процессией прошло в гостиный покой.
Но там было слишком жарко, поэтому одни начали выходить под липы, другие на крыльцо, иные в сад; общество делилось, разламывалось, собиралось в группы, согласно родству.
Подкоморина, однако же, схватив главного гостя, того, который был ей наиболее важен, не думала его отпустить так легко. Имела она свои проекты и держала бедного разговором на привязи; счастьем, неподалёку сидящая Мира говорила ему гораздо больше занимающим взглядом, который играл по всем давно онемелым струнам в сердце несчастной жертвы.
Подкоморине очень было важно, чтобы её дочки порисовались всё-таки перед знатоком музыкой, которой учились от мадам француженки, специально привезённой для придания лоска их образованию. Было это приготовлено тайно, Ванда имела сонату Моцарта, а Эвелинка вариации Гелинка. Надо было, однако же, так умело как-то навести разговор, чтобы панны будто бы невольно и принудительно сели к венскому клавикорду.
Он стоял открытым, а пан Валентин хорошо догадался, что это значило. Говорили о разных, всевозможных предметах, даже о музыке, а Орбека сам согласился на просьбу, чтобы панны сыграли, за что подкоморина была ему очень благодарна. Поэтому панна села Ванда за сонату, которую знала отлично, играла прелестно, хотя её вовсе не понимала.
Все восхищались, Мира больше всех, в её глазах летали какие-то дьявольские искры.
Вариации Гелинка, в которых были, как тогда называли, скрещивающиеся пьсы, то есть перекладывание рук, правую к басу, левую на высшие ноты, произвели фурор. Панна Эвелина встала от клавикорда розовая как пион, но счастливая, что это трудное море осилила и приплыла в порт.
По очереди девушки начали настаивать и просить пана Валентина, чтобы сыграл; несчастный человек, имеющий наивысшее отвращение к показухе, чуть не убежал сразу, но Мира шепнула ему словечко и он заколебался.
– Чем же меня могут волновать эти люди? – сказал себе в душе, осмеливаясь, пан Валентин. – Сыграю для этого призрака дней моей юности, поймёт ли меня кто, или нет, дрогнет ли в ком сердце, вытеснит ли слезцу, или я вызову равнодушный смех, чем же мне это навредит?
Венский клавикорд был отличный, душа мечтающая; Орбека стоял, качаясь, смягчался, дал проводить себя к стулу, забыл в конец концов о толпе, что его окружала.
В зале царила тишина, с крыльца только через открытую дверь весенний ветер приносил фрагменты речей и выкрики попивающих старый мёд и венгрин.
Мира, опершись на стол, сидела в уголке, в стороне, но так, что и он её, и она его могла видеть. Лицо Валентина облачилось вдруг таким торжественным выражением серьёзности, восторга, елейности, что даже непостоянная кокетка почувствовала себя взволнованной. По нему видно было, что в минуты, когда он должен был коснуться клавиш, внутренняя музыка играла уже гимн боли в его душе; он подошёл к этому клавикорду, как энтузиаст к