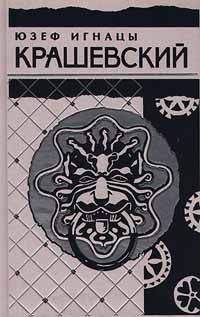лезть по длинной, по скрученной, по тёмной, узкой и всё более крутой лестнице, всё жилище представляли две комнатки. Одна с окном на улицу в мансарде, низкая и только в середине позволяющая выпрямиться, другая с маленьким окошком в крыше, затянутым пузырём, служащая складом.
В первой находилась продавленная, как кормушка, кроватка, покрытая кожей и одеялом, с чёрной коженой подушкой и выцветшим покрывалом. На ней — две пары огромных пистолетов, оправленных в латунь, ружьё, сабля, шпаги и т. п. вплоть до турецкого ножа. На столике стоял подсвечник с сальной свечкой, стакан, бутылка, гребень для волос и форма для литья пуль. На стульях, набитых соломой, — беспорядочно брошенная одежда, дальше — треснутый жбан, подобная миска, несколько пар сапог и у двери незакрытая шкатулка.
Посреди первой комнаты сидел пан Кжистоф, самостоятельно ремонтируя порванную одежду и весело напевая, когда запыхавшийся пан Чурили постучал в дверь.
— Двери и сердце открыты! Прошу! — сказал хозяин, поворачиваясь и беря в зубы иглу.
Они вошли, пан Пеняжек измерил их взглядом и, подвинув стул, сам занял место на кровати и весело поздоровался.
— Что привело уважаемого принципала? — спросил он. — Вот видите, занимаюсь шитьём, хоть шляхтич, но не за деньги, только для собственного удовольствия, всё-таки это не должно мои драгоценности осквернять.
— Несомненно, — сказал пан Чурили.
— Я никогда не мог понять, какое это имеет отношение к благородству и честности (потому что у меня всё едино), когда кто-то работает рукой.
— Я вам рекомендую моего сына, — прервал старик.
— Я очень рад! Но я его первый раз вижу, не знал даже.
— Я вернулся из татарского плена.
— О! Тысяча чертей, не удивительно, что пожелтели. Ели конину и пили кобылье молоко.
— Вы знаете, — таинственно шепнул Чурили, — что я не понимаю, как всё открылось.
— Что? Этого быть не может! — воскликнул Кжистоф, с нетерением бросая одежду. — Это не может быть.
— Как пить дать. Сегодня князь вернулся, должно быть, на дороге узнал, что его увезли в Литву. Но от кого?
— Не понимаю. Клянусь честью, что не понимаю. За товарищей я ручаюсь, а я вёл их рядом до самого Кракова.
— Когда вы вернулись?
— Три дня назад.
— Все?
— Подождите! Я дома, Ленчичанин на мгновение остался и припозднился, но вчера вернулся. Никто иной, как он. Он допился.
И, злобно поднимая кулак, прибавил:
— Клянусь, что его больше не буду использовать, пусть с голоду подыхает и делает что хочет.
Сказав это, он побежал к дверке в другую комнату, высунулся в неё наполовину и начал кричать.
— Ну, вставай, и иди сюда, слышишь.
— Гм, иду, иду, — ответил ему приглушённый голос. — Сказать правду, я не выспался ещё, но иду.
И почти сразу же в двери достаточно скромно, потому что только в неопрятной одежде, показался Ленчичанин, протирая глаза и почёсывая голову.
— Ну что? — спросил он, водя по кругу ещё сонным взглядом.
— Говори правду! — громко зарычал Пеняжек. — А нет, тогда тебя на улицу через окно выкину; говори правду.
— Но какую? Я не знаю, чего вы хотите. Я могу сказать вам сто великих истин, начиная с самой огромной в отношении совершенства Марци у пани Крачковой.
— Здесь не о глумлении идёт речь, а о предательстве.
— О предательстве! Ну, что же это, спрашивайте?
— Ты предал, выдал.
— Я! Я! — с ужасом отступая и заламывая руки, сказал шляхтич. — Pudendum, horrendum! Я!
— Ты, потому что никто другой не мог; пожалуй, ты напился.
— Я? Что? Когда? Кому?
— Ты ни с кем не встретился в дороге, отстав от нас?
Шляхтич щёлкнул пальцами и кивнул головой, точно сказал: теперь знаю.
— Ну, ну, понимаю!
— А, видишь.
— Вы увидите, что ничего не было, — спокойно ответил Ленчичанин, — дайте мне сказать.
— Говори, и правду, — сказал пан Кжистоф.
— Вот как было: на второй день, когда у меня захромала лошадь, я ехал медленно и заезжал в корчму.
— Я этого ожидал.
— А куда вы хотите, чтобы я заехал? Достаточно, что заехал, совсем голый, и лошадь устала, тяжёлые вьюки.
— Смотри, это уже ложь.
— Тяжёлые, я настаиваю на этом, и такие обременяющие, что я должен был мой старый контуш, памятку от отца, продать для облегчения.
— И купил пива?
— Ну, а что мне было делать? Правда, оно плохое было, но какое было, такое я должен был принять. Нечего было делать, я сижу и пью. Тут грохот, шум, страх! Приехал какой-то магнат, пан, князь.
— Ну вот, — сказал Чурили.
— Да, князь, — прибавил шляхтич, — но это не конец. Его слуги хотели меня выкинуть из комнаты, я сопротивляюсь, подходит он сам Serenissium или Celsissimus и мягко, тихо велит мне остаться. Из-за слуг, чтобы показать им, кто я, я остаюсь со своей кружкой. Начинается разговор.
— И всё выдано! — сказал Чурили печально.
— Подождите-ка, ещё нет. Он спрашивает меня, откуда я, кто я. Говорю, это дивная история, и начинаю рассказывать.
— Да, негодяй! Предавать! — воскликнул с возмущением Кжистоф. — Предавать!
— Но нет, я говорил ему без имён и мест. Он начинает меня спрашивать, я утверждаю, ut decet. Настаивает и говорит: «Расскажешь за гарнец мёда?» Этим он меня обидел. Я сказал ему: «Ни за какое королевство мира!» Он это хвалит и приказывает дать мёда, но так настаивает, так настаивает, что, чёрт знает как, я проболтался про Литву.
— И всё?
— Я как шляхтич, нет! Но, заметив, что язык заплетается от мёда, я боялся, как бы он у меня из-под сердца ещё чего не выдолбил; схватил седло, вьюки, якобы пошёл спать, и, забравшись на клячу, удрал.
— Больше ничего не сказал?
— Что это! Вы думаете, я готов продаться? — с гордостью сказал Ленчичанин. — Ха! Это оскорбление! Это позор! За это вы мне ответите. Я никогда никого не предавал!
— Но ты излишне проболтался.
— Это по-человечески, а язык вовремя задержал. За эти подозрения вы должны мне…
— Гарнец пива, — добросил пан Кжистоф.
— По крайней мере Марку, и от Крачковой.
Немного более спокойный Чурили согласился на возмещение убытков, и быстро вышел.
Когда Чурили входили в дом пана Пеняжка, почти в то же время к воротам подкатила карета Соломерецкого, остановилась, и хмурый князь, заслоняясь плащом, вошёл в тесный дворик. Он явно кого-то искал, огляделся вокруг, с презрением фыркнул и вошёл на лестницу, ведущую в комнату пана Кжистофа. Рассказ Ленчичанина близился к завершению, когда Соломерецкий подходил к двери. Там он встретил мальчика, оборванца, который служил Пеняжку.
— Где тут живёт, — спросил он, — Гроновиус?
— Гренобиш? Здесь нет никакого Гренобиша.
— Старый, лысый, седой, чужеземец, доктор.
— Сзади