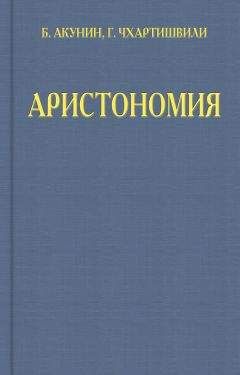Ознакомительная версия.
Эх, попасть в настоящий большой город! Помыться, поспать на кровати – без блох, без порскающих по земляному полу мышей. Прошлую-то ночь вообще в сарайке ночевали, на сене, под капающим через дырявую крышу дождем.
Совсем иначе эта война воображалась, когда отправлялись из Москвы. В литерном поезде на два вагона, с платформой для автомобиля, положенного Панкрату Евтихьевичу по высокой должности. Бляхин думал, всё иначе будет, не как в лихие времена. Всё ж таки порядку в рабоче-крестьянской республике стало больше. Людишки понемногу начали расставляться по местам, как положено в государстве – в согласии с положением, чином, заслугами. Ордена выдают, скоро повсеместно введут знаки различия (Филипп себе на рукав уже пришил лоскут с тремя квадратиками, согласно табели). В общем, не восемнадцатый год. И война нынешняя – не с беляками, не с Махной сиволапым, а европейская, первый шаг на пути к мировой революции. Панкрат Евтихьевич – член Реввоенсовета всей РСФСР, шутка сказать. По старорежимному считать – полный генерал. Хватит себя-то ронять. Незадачная крымская командировка для человека такого масштаба была глупость, ребячество.
Когда вернулись в Москву, хорошо стало. Нравилось Бляхину в столице пролетарской революции. Казенный особняк, заседания, обмундирование по первой категории, паек – по высшей.
Ничего плохого от поездки «на театр военных действий» он не ждал. Заселился в отдельное купе салон-вагона, чайку с лимоном отхлебнул – сказал себе: «Вот так воевать можно».
Ошибся. На польском фронте оказалось похуже, чем в Крыму.
Поезд литерный остался в Буске, на станции. Дальше пути были подорваны. И пошла болтанка-моталовка по разбитым проселкам, по лесам-полям, по вшивым деревенькам, где ни помыться, ни обсушиться, ни пожрать по-человечески. Три дня прожили этой поганой жизнью, а кажется – три месяца.
И товарищ Рогачов недоволен. Тревожен товарищ Рогачов. А Панкрат Евтихьевич не такой человек, чтоб по пустякам переживать. На неустрой и бесприют ему плевать, он к удобствам равнодушный. Конная армия ему не нравится – вот что. Ругается он сильно на красного героя товарища Буденного и на прочих здешних начальников.
Члена РВС Рогачова на Конармию почему срочно кинули? Есть в Москве мнение, что заволынились Буденный с Ворошиловым на Львовщине. Не о победе над врагом думают, а о своей славе. И о том, чтоб распотрошить богатейший город, каких в разоренной России не осталось. Панкрату Евтихьевичу положено разобраться на месте: возможно ли взять Львов в два, много три дня, невеликой потерей. Если нельзя – брать товарища Буденного за шиворот и скорей тащить на северо-запад, где истекают последней пролетарской кровью измученные дивизии Запфронта. А еще товарищ Рогачов должен был проверить, правду ли доносят политработники, будто Конармия на грани разложения, дисциплина в ней ни к черту, тон задает махновский элемент, а честные партийцы из опасения за свою жизнь не смеют рта раскрыть.
Трое суток по передовой отъезжено – туда, сюда, обратно. И с каждым днем Панкрат Евтихьевич всё мрачней. Не армия это, говорит, а разбойничья орда. Грабят, женский пол насилуют, над пленными измываются, населенные пункты захватывают не какие по плану положено, а какие побогаче. У каждого конармейца конь еле бредет – в мешках хабару понапихано. Чем старше начальник, тем добычи больше. Иной комбриг целую повозку барахла в обозе держит, а у комдивов по двадцать-тридцать трофейных лошадей, главное казацкое богатство.
Нынче с утра обследовали шестую дивизию – самую боевую, ближе всех к Львову подобравшуюся, но и самую разболтанную. Под селом Задворье наблюдали в бинокли сражение: как красная конница чехвостит панскую пехоту. Впечатлительно. Герои конармейцы, нечего сказать. Но когда стрельба-рубка кончилась, когда казаки спешились, стали раненых поляков добивать, с мертвецов сапоги и одёжу стаскивать, потемнел лицом товарищ Рогачов. Велел ехать в штаб бригады – сюда то есть, в этот самый Неслухов.
Ох, крутенько поговорил Панкрат Евтихьевич с комбригом товарищем Гомозой, славы у которого не меньше, чем у самого Буденного. Они с товарищем Буденным друг на дружку очень похожи: морды у обоих красные, брови густые, усищи вразлет, только товарищ Гомоза еще кряжистей командарма, шире, круглее – будто Буденного насосом надули, как автомобильное колесо.
Героем товарищ Гомоза еще в германскую стал. В газетах про него писали, даже на лубках рисовали, вровень с казаком Кузьмой Крючковым, что на пику разом двух германцев вздел. Сам царь Николашка принимал вахмистра Гомозу во дворце, обнимал, в уста лобызал, велел в офицерский чин произвесть.
И вот такого человека – богатыря сказочного – товарищ Рогачов последними словами крыл, за ворот тряс. Ты что, рычал, мерзавец, делаешь. Во что бригаду превратил. Мы-де в Европу факел революции несем, хотим порабощенный рабочий класс освободить и на свою сторону привлечь, а твои волки кровавые Красную Армию позорят, население в врагов наших превращают. Дело пролетарской революции погубить хочешь, гад. Насмотрелся я, шипел, как вы тут воюете. К стенке тебя, комбриг, надо.
Долго ругался, даже по-матерному. Гомоза слушал молча, только лицо, без того багровое, всё гуще наливалось. Френч у комбрига генеральский, даром что без погон. На груди, рядом с двумя орденами Красного Знамени, полный георгиевский бант – никогда прежде Филипп не видывал, чтоб в Красной Армии кто-то дерзал царские награды носить. Гомозе – ему можно.
– Желаешь меня к стенке? Валяй, – сказал комбриг, когда Рогачов от ярости захлебнулся. – Я смерти не боюся. – Зажатая нагайка мерно щелкала по лаковому сапогу. – Только я вам, товарищ член Реввоенсовета, вот чего скажу. Дисциплина у меня в бригаде есть. «Ужас» называется. Глянут бойцы на меня – должны от ужаса дрожать. Никакой другой дисциплины с ими, бесами, не бывает. У меня три взыскания: малое, среднее и большое. Всякая собака про то знает. Малое – вот. – Он поднял пудовый кулачище. – До четырех зубов смаху вышибаю. Среднее – вот. – Нагайка со свистом рассекла воздух. – А большое – тута. – И похлопал крышку «маузера». – Плохо держу бригаду, сам знаю. Но не стань меня – в какую сторону хлопцы повернут, кого резать станут? Так что, расстреляешь меня иль повременишь?
Вздохнул Панкрат Евтихьевич, замолк. Минуту или две глядели они друг на друга исподлобья: один прямой, сухой, железный; второй – бык быком.
Наверное, случись это сразу по приезде товарища Рогачова в Конармию, не сносить бы комбригу головы. Не раз и не два видел Бляхин, как Панкрат Евтихьевич своею рукой, без трибуналов, вредных для революции элементов карает. Страшен усатый комбриг, а и он настоящую силу почуял. Стоял, ждал – не шелохнется.
А потому что одно дело – просто герой, и совсем другое – истинно капитальный человек. На этой войне, которую называют Гражданской, Филипп по своей ответственной, при товарище Рогачове, должности повидал вблизи много больших людей. Когда революция, наверх выдвигаются не генеральские сынки, а природные вожди, кто имеет дар за собой людей вести. Видывал Филипп и лихих, и удачливых, и грозных, и будто пламенем охваченных, и тех, которые умеют речи говорить – заслушаешься, однако ж всё это были качества временной ценности. Только для революционного времени. Отгрохочут пушки, кровь подсохнет, муть осядет, и тогда окажется, что большинство шумных героев в новой жизни ни за чем не нужны. Гомоза этот, ужас вселяющий, будет в память о прошлых заслугах какую-нибудь почетную, но не важную должность занимать и, поди, сопьется на ней от скуки. Или Буденный тот же. Это сейчас он со своей конницей птица большого полета, а на что он в солидном государстве? Вот товарищ Ворошилов, главный конармейский комиссар, этот далеко пойдет. Глаз у него хитрый, спокойный. Буденный зыкает, а Ворошилов тихонько говорит да посмеивается. Это знак силы – Бляхин по Панкрату Евтихьевичу научился такие приметы распознавать.
Капитальный человек никогда горло не дерет. Но когда говорит – все его слышат. Крепко повезло Филиппу с товарищем Рогачовым. Как есть орел – спокойного, мощного полета. Держись за крыло да не падай, и всё у тебя будет.
Один только недостаток у благодетеля. Тяжкий. Никак Панкрат Евтихьевич не поймет, что орлиный полет должен всегда вверх быть, к солнцу. Не ценит товарищ Рогачов своего исключительного положения, не брезгает с высот до самой земли спускаться. Совсем нет у человека представления о служебном росте. Как закончится война, запросто может министром, то есть народным комиссаром стать, а может вместо этого какую-нибудь ерундовую должность себе выпросить. В поезде, четыре дня тому, в хорошем настроении, стал Рогачов рассказывать, как в мирной жизни мечтает большую электростанцию построить, потому что учился где-то за границей на инженера-электрика. Электростанцию, твою мать! Антоха, дурак, слушал-поддакивал. Филипп возьми и вверни: «Электростанцию много кто построить сумеет. Дело техническое. Вот кто будет всю страну на коммунистические рельсы ставить – таких мастеров днем с огнем». Научился он такие слова находить, чтоб на Панкрата Евтихьевича действовали. И сработало. Про электростанцию эту глупую разговора боле не было.
Ознакомительная версия.