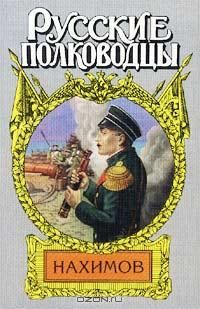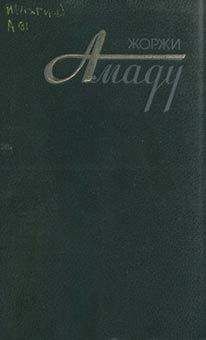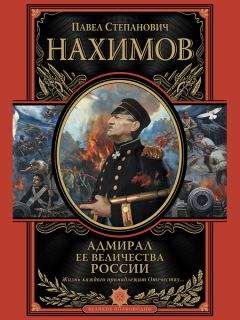Февраль был особо трудным месяцем, потому что определилось стремление противника заложить на Киленбалочных высотах укрепления и осадные батареи. А это значило, что англичане с французами поворачиваются для решительных атак от 4-го бастиона к Малахову кургану.
Хорошо, что в это время Павел Степанович получил ценнейшего сотрудника в армейском начальнике, генерал-майоре Хрулеве. Как в армии, которую от суворовских и кутузовских традиций усердно избавляли бездарные Паскевичи и Горчаковы, уцелел этот всегда готовый на смелое предприятие молодой генерал, убежденный в необходимости доверия солдат к их начальникам, – было удивительно.
Хрулев и командир волынцев Хрущев, с благословения Нахимова и Истомина, стали силами пехотинцев осуществлять планы инженера Ползикова. Сражаясь с мешавшими работать французами, при деятельной поддержке батарей Истомина и трех пароходов Бутакова, селенгинцы и волынцы построили два редута, названные именами тех же полков. Но это было только началом развития обороны впереди Малахова кургана.
– А выходит, чем труднее, тем мы лучше воюем и больше славных начальников обнаруживаем, – говорил в конце февраля Истомину Павел Степанович.
– И то, как генерал Хрулев появился, я стал спокойно спать, согласился Истомин.
За окном чертит багровый след конгревова ракета. Дом скрипит, с шорохом осыпается штукатурка, струится воздух, пахнущий талостью и соками земли. Весна, хоть и робко, стучится в осажденный город. Давеча на Малаховом кургане из-под снега извлекло солнце крест из ядер, сложенный на месте гибели Корнилова, и зоркий Истомин разглядел вылезающие травинки. А в балке по краю гати к будущим редутам он сорвал бледную фиалочку.
Где эта фиалочка? Должно быть, в кармане сюртука. Павел Степанович не ленится встать с постели – все одно так утомился, что не заснуть. Но вместо фиалки нащупывает письма. Прочитанная почта прошедшей недели – послания Михаилы Рейнеке и Василия Завойко. И вдруг вспоминается, что в обеих корреспонденциях упомянут исключенный из жизни, но выживший в далеком Амурском крае Миша Бестужев.
То ли колкости Меншикова, то ли тяжесть дела затопления кораблей сразу помешали сердцу обрадоваться. И кажется, сейчас только он узнает, что Михаил живет и не утратил бодрости ума, несмотря на тридцать лет травли. Невольно приходит на память рассказ о последних месяцах жизни царя. Одиноким волком метался
он из Зимнего в Петергоф, одиноко бродил по ночным набережным Петербурга, одиноко сидел перед картами Крыма и моделями севастопольских укреплений. Какую пирамиду строил на крови! И помер жалким трусливым зверем, с ощущением краха всей своей политики. А Миша вот жив и мечтает сажать на далекой реке севастопольские акации. Так, значит, раньше или позже справедливость торжествует и прорастает хорошее, как эта фиалочка после зимы.
За дверью слышны шаги и шепот:
– Спит?
– Может быть, не станем будить.
– А приказ? Заругает.
Мальчишки! Даже если бы спал, достаточно этих голосов, чтобы проснуться. Нет теперь у него сна мичманской юности.
– Слышу вас, господа. Готовьте лошадей. Поедем через Корабельную.
До белеющей будки на Водопроводном канале луна освещает путь и лошади идут бодро, но на последнем участке кромешная тьма. Если бы не фигуры солдат, идущих сменить товарищей в начатых работах, всадники могли бы заблудиться на извилистых скрещениях троп. Какой-то любезный поручик-волынец служит морякам проводником к генералу Хрущеву.
Хрущев, деятельный и толковый начальник, коротко и ясно вводит Павла Степановича в обстановку.
– Как условлено было, ваше превосходительство, мы выполняем ваши требования. Селенгинцы еще устраиваются, обкладывают линию редута турами, а волынцы выброшены вперед и начали делать свой редут. Тут, недалеко, сажен полтораста по прямой. Да вот сейчас новость сообщили: французы штуцерным обстрелом не довольствуются, собираются атаковать.
– Какие орудия получили и где поставили? – спрашивает адмирал.
– Двадцатичетырехфунтовые на местах. Боясь за левый фланг, я еще двухорудийную батарею заложил, но тяжелые морские орудия не вытянуть, – сами видели крутизну.
– Крутизна точно большая… Как же, Александр Петрович, готовитесь отразить нападение? Помнится, я просил вас иметь фальшфейеры для сигнала "Чесме" и "Владимиру". Они знают, что на ваш вызов надо отвечать огнем по здешним позициям союзников.
– Помню, и у меня для этой цели в штабе мичман с "Чесмы". А батальоны работают с оружием. Кирку в сторону, ружье на руку, пали и коли, действуй по-суворовски, лучшая оборона – контратака.
Они оба смеются.
– Так я подожду дела у вас, – решает Павел Степанович.
Но ожидание оказывается напрасным. Только пластуны ведут вместе с охотниками из моряков редкую перестрелку. Бой за новые редуты вспыхивает в следующую ночь. Французам удается подойти незамеченными к пластунским секретам. Они достигают мелкого рва, цепляются за туры, но тут волынцы и селенгинцы начинают стрелять в упор, берут наступающих в штыки и гонят в Георгиевскую балку. Фальшфейеры своевременно вызывают боевую тревогу в отряде Бутакова, и артиллерия пароходов косит густые ряды отступающих. Катится по Севастополю радостная весть: побили его, наступаем.
– Теперь, – рассказывает Ползиков, – можем спокойно заканчивать работы по плану, выносить оборону вперед от Малаховой башни. Вот этот чертежик я вручу сегодня командиру Камчатского полка.
Павел Степанович внимательно рассматривает бумагу, на которой показан знаменитый в недалеком будущем редут. Новое укрепление не замыкается валом и рвом с тыла, как другие редуты. Три фаса его соединены тупыми углами, оттого оно и носит особое название – люнет.
Как опытный артиллерист, Нахимов отчетливо представляет себе люнет на местности. Вот расставлены на нем десять пушек и держат под огнем местность между Доковым оврагом и Киленбалкою, позволяют обстреливать подступы французов за Киленбалкою, а с другого фланга наносить удары англичанам, расположенным против 3-го бастиона.
– Орешек вредный получится для господ неприятелей. Крупнейшее препятствие на пути к Малахову кургану. – Павел Степанович довольно улыбается. – И потому назовем его – в честь Камчатского полка и неприступной окраины нашей Камчатки…
– Знаете, Владимир Иванович, я непременно привезу на Малахов нового главнокомандующего, чтобы он оценил значение этого пункта нашей обороны. Тут ключ к Севастополю. Был другой ключ – Четвертый бастион, но успех нашей минной войны, – поворачивается он к подошедшему Тотлебену, – считаю, этот ключ у союзников решительно отнял.
– Князь Михаил Дмитриевич почти слеп, – говорит о Горчакове Тотлебен, и, скажу вам прямо, имеет лишь два достоинства: лично храбр и заботлив в вопросах снабжения. В остальном же не лучше князя Меншикова.
– Ну, сделаем сами что сможем. Истомин тут с Малахова повседневно приглядит…
Павел Степанович очень надеялся на Владимира Ивановича, но еще шли земляные работы на Камчатке под обстрелом и в рукопашных боях с французами, а Малахов курган уже лишился своего неутомимого и доблестного начальника.
Это случилось вскоре после глубоко огорчившей Нахимова смерти младшего Бутакова…
Возвратясь в начале марта с похорон младшего Бутакова, адмирал хмуро поясняет адъютанту:
– Этого-с нельзя больше допускать. Составьте, Феофан, приказ. В общей части упомянем, что Севастополь обороняется шесть месяцев и средства наши утроились. Севастополь мы не сдадим. Однако для полного торжества надо беречь силы. Вмените в обязанность начальникам, чтобы при открытии огня с неприятельских батарей не было людей на открытых местах, а прислугу у орудий ограничили крайне необходимым числом. Всем свободным офицерам тоже находиться в блиндажах. И, наконец, повторите запрещение частой пальбы.
– Хорошо – так? – спрашивает через некоторое время Острено, заглядывая через плечо адмирала в исписанный лист.
– Не очень, не очень. И правосудие божье и поручение государя, а главное забыли: о существе сбережения сил. Приказы надо писать пореже-с, но так, чтобы они доходили до сознания. А это все и в присяге есть. Дайте-ка мне перо. Вот-с тут мы и вставим перед последним пунктом. – Он пишет: "Прошу внушить офицерам и рядовым, что жизнь каждого из них принадлежит отечеству и что не удальство, а только истинная храбрость приносит пользу и честь умеющему в своих поступках отличать сию храбрость от удальства".
– Так, Феофан? – спрашивает он у Острено.
– Так-то так, но разве вы без чести, Павел Степанович?
– Это почему-с?
– Сами знаете-с. Все время искушаете неприятеля, появляясь в открытых местах в вашем черном сюртуке с адмиральскими эполетами.