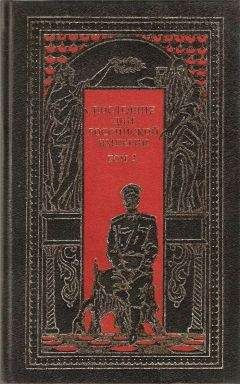Было странно убранство квартиры Коржикова. В большом зале на стенах портреты бояр в горлатных шапках, боярынь в большом уборе, генералов — в орденах и звёздах, сановников — в пудреных париках. Под бронзовой люстрой, в которой электрические свечи не горят, стоит длинный стол, накрытый для ужина, и тяжёлые дубовые стулья вперемежку с креслами и стуликами, обитыми потёртым голубым штофом. Тут же диван, оттоманка — смесь обстановки столовой, кабинета и залы. Все роскошно и все грязно, запылено и заплёвано. Рядом рабочий кабинет Коржикова. Громадный письменный стол с вывернутыми замками и облупленной резьбой покрыт безделушками богатого малахитового прибора. Но и в нём изъяны. Одной из чернильниц нет, у бронзового медведя отломана лапа. На столе немного бумаг, кипа номеров газеты «Известия», какие-то списки. Тут же тяжёлое кресло, большой диван и два книжных шкафа с выбитыми стёклами и без книг.
Во всей квартире, несмотря на лето, холодно, неуютно, сыро и пахнет испорченным водопроводом. Мебель точно неизлечимо больна и в тоске по своим настоящим владельцам доживает свой век.
Накрытый стол заставлен винами, закусками и жарким. Но ни в убранстве его, ни в выборе блюд не видно определённого плана. Подали то, что достали, что сумел изготовить старый повар при отсутствии многих приправ. Блюда сдвинуты, как попало. Жареная индейка стоит рядом с земляничным кремом, — и то, и другое уже тронутое; видно, что здесь не ужинали, а ели, дорвавшись до вкусной и обильной еды. Бутылки не расставлены по столу, но стоят кустиками в трёх местах стола. Тут и водка «Зубровка», и шампанское, и красное французское, и донские вина. Что достали, что удалось ещё реквизировать.
Таковы же и гости. И их точно собрали, реквизировали со всей России и смешали в общую кучу. Они рассыпались по комнате и едят как попало. Одни, жадно обсасывая каждую косточку и шумно вздыхая; другие — робко оглядываясь, точно боясь, что отнимут; третьи — брезгливо и пренебрежительно.
В голове стола, на большом голубом кресле сидит сам хозяин. На нём неизменная, новая, блестящая, чёрная кожаная куртка, украшенная красными и золотыми эмблемами. Она расстёгнута и из-под неё видна красная шёлковая рубашка, заправленная в кожаные шаровары, за которые заткнуто два револьвера. Коржиков с ними никогда не расстаётся. Молодое, исхудалое, измождённое пороком, кокаином, пьянством и развратом лицо его мрачно. Он не в духе. Он в одном из тех тяжёлых настроений, когда для него нет непереступимой черты. Рядом с ним, по правую руку тоже в кресле, сидит командир коммунистического полка Павел Голубь. Это мужчина лет сорока пяти, из старых вахмистров, лысый, толстый, кряжистый и могучий. Красное лицо его покрыто морщинами, и из них угодливо смотрят маленькие серые глаза, вечно подернутые слезою почтительности. По другую сторону — нарядный, в чёрном ментике старой кавалерийской школы и краповых щегольских чакчирах, небрежно облокотясь на стол, сидит «военспец» Рахматов, пожилой кавалерийский полковник, продавшийся III интернационалу. Он небрежно, умеючи, посасывает шампанское из широкого фужера и большими, ясными глазами оглядывает сидящего против него молодого коммуниста. Это тоже «военспец» — товарищ Николай Полежаев. Он изящно одет в новенький, хорошо пригнанный, английский военный френч с нашитыми на груди красными полосами и вышитыми на рукаве красными и золотыми звёздами. Это герой польской войны, восходящее светило Красной армии. Рядом с ним напряжённо работает над крылом индейки Осетров. Он сильно похудел, но держится прямо и влюблёнными глазами смотрит на Полежаева. Это его теперешний кумир, и за него он готов идти в огонь и в воду.
Остальные гости — молодые люди в рубашках-косоворотках с красными нашивками через грудь, подпоясанных красными кушаками, в старых мундирах, в пиджаках сидят, кто за столом, кто на диване. Они сильно выпили, им трудно сдерживаться, но они боятся хозяина и нет-нет поглядывают на него.
Два красноармейца в широких, плохо пригнанных рубашках ходят на носках по гостиной и разносят чай.
Мими Гранилина сидит на маленьком пуфе у окна, возле большой вазы с цветами и, обмахиваясь веером, смотрит снизу вверх на красивого офицера — коммуниста Осетрова. На ней шёлковое, с атласом и вышивками, узкое и короткое платье, из-под которого видны тонкие ножки в золотистых шёлковых чулках.
На оттоманке лежит Беби Дранцова. Она в полном расцвете своих двадцати четырёх лет. Голова с классическим профилем, с громадными голубо-серыми с поволокой глазами, с белым высоким лбом, матовым румянцем на щеках и тёмными, по совдепской моде по плечи остриженными и завитыми волосами, полна благородства. Широкие плечи и сильно обнажённая, полная грудь белы. Узкое платье очерчивает её рослую фигуру с широкими бёдрами и стройными, полными ногами. Два года тому назад, на допросе в чрезвычайке, её изнасиловал красавец матрос, и с того дня она упала в какой-то душевный провал. Она забыла все прошлое. Воспитание, религия, семья — всё было брошено. Веселиться, есть, пить, валяться по мягким постелям с этими сильными мужчинами, пахнущими порохом и кровью, которым все можно, получать от них подарки: кольца с пятнами крови, браслетки и брошки, неизвестно откуда добытые, рыться с ними в чужих шкапах и комодах и бесстыдно, при них примерять чужое бельё и платье — всё это стало её жизнью. Полное жизни тело искало сильных ощущений, и среди комиссарских содержанок она сделалась знаменитостью.
Рядом с нею, обняв её за талию, лежит Шлоссберг. Он сильно пьян, раскис, и Беби противны прикосновения его мокрых, скользких, холодных рук. Но она не смеет прогнать его.
— Товарищ, — говорит она тихим шёпотом, — вы знаете товарища Полежаева?
— Нет. А что?
— Мне говорили, что он какой-то особенный коммунист. Даже к женщинам никогда не прикасался.
— А вам, Беби, поди такого только недоставало.
— А что же? И правда. Я думаю, хорош.
— Я вам его сосватаю.
— А товарищ Коржиков?
— Ему-то всё равно…
— Вы сомневаетесь, товарищ, — щуря свои глаза и в упор глядя на Полежаева, говорил Коржиков, — что это мои предки?
Вот уже вторую неделю, как Коржиков чувствует себя нехорошо в присутствии этого молодого офицера. Нашла коса на камень. Этот человек, безупречный коммунист, прибывший с польского фронта с самыми блестящими аттестациями Тухачевского и Будённого, фаворит самого Троцкого, странно влияет на Коржикова, и в его присутствии Коржиков чувствует свою волю подавленной и злится, встречая холодную усмешку.
Полежаев говорит ему такие вещи, за которые надо тут же расстрелять, а Коржиков молчит и криво улыбается. Сейчас все пьяны. Не пьяны только Коржиков и Полежаев. Коржикову хочется чем-либо допечь и сбить с толку Полежаева, унизить и раздавить его.
— Если бы это были ваши предки, вы бы знали, кто они такие, — холодно ответил Полежаев, и его ледяное спокойствие волновало Коржикова. — Вы их перетащили из квартиры генерала Саблина, черт знает как безвкусно и безтолково развесили и думаете, что от этого стали их потомком.
— Саблин — мой отец, — быстро сказал Коржиков.
— Не сомневаюсь. Потому-то вы и носите фамилию расстрелянного эсера, — холодно сказал Полежаев.
— Это потому, что я родился вне брака.
— А вы знаете, что такое брак? — насмешливо сказал Полежаев.
— У коммунистов нет брака, — сказал Коржиков.
— Так о чём же вы говорите.
Коржиков помолчал немного и поёжился.
— Вы знаете, товарищ, — быстро сказал он, — что значит по-латыни Виктор?
— Да, знаю. Но, вероятно, вы знаете тоже, что значит по-гречески Ника[18] — победа. Сильны ещё в вас, товарищ, буржуазные предрассудки, если вас тешат такие пустяки, как имя.
Коржиков отошёл от Полежаева. Он был зол.
— При-слу-га! — зычно крикнул он. Красноармеец подбежал к нему и вытянулся.
— Э-э… вот что, товарищ, — спорхайте-ка в эскадрон и моих песенников и музыкантов, да ж-живо!
Красноармеец бросился исполнять приказ политкома.
— Я для вас, господин комиссар, — слезливо моргая глазами с опухшими красными веками, сказал командир полка, — подготовил оркестр, как у товарища Будённого. Две гармошки и кларнет. Но играют, знаете, изумительно. Вот сейчас сами изволите послушать. И опять же новые песни знают. Частушки эти самые. И про Колчака, и про добровольцев. Самые хорошие.
— Послушаем, — небрежно кинул Коржиков.
На углу стола Рахматов выговаривал, сидя, стоявшему перед ним Осетрову:
— Вы, товарищ, доведёте лошадей до того, что они подохнут. Ни чистки, ни корма.