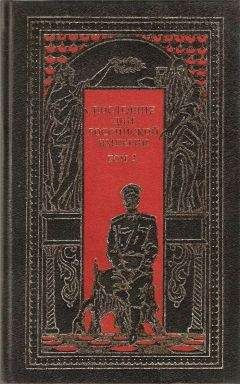— Хоть бы остановили пароход.
— Ну лодку или круг?.. Ведь погибнет душа христианская.
— Мало их теперь погибло!
— Видал, калмыки детей в воду кидали.
— Упорный народ!.. Сколько их погибло.
— Все племя пропало задарма.
— Плывёт по морю. Эх и лошадь добрая под ним…
— Пароход стоит.
— Надо задний ход дать…
— Один плывёт. Лошадь ко дну пошла.
— Эх родимая!
— Да, что же, лодку! Лодку! Круг бы кинуть.
— Я сама за ним кинусь, — вставая, воскликнула Оля.
— Не глупи, Оля!
— Надо канатные нервы иметь.
— Потонул…
— Нет, за волнами не видно. Вот видите, рука.
— И недалеко совсем.
— Нет, потонул… Не видать.
— Пошли полным ходом.
Пароход проходил бухту. Проплыли мимо фонари маяков, показались в садах красные крыши и белые трубы Цементного завода, зашипела и заплескала, ударяя в борта парохода синяя белогребенная волна, шире раздвинулись берега, в рыже-чёрное пятно слились табуны лошадей в улицах города и на молах и ярче стали сверкать огоньками отражения солнца на синих волнах.
— Прощай, Россия! — сказал кто-то.
— Погоди, вернёмся ещё…
— А вон, видите, и другие суда идут. Во-он дымят… Под самым небом.
— Поплыла Россия… По морям, морям… По чужим… Эх! Родная!..
— Под чужим флагом… Под чужим именем пришлось скитаться… Своего не смогла уберечь…
— А все не сдалась жидам!.. Не покорилась…
— Эх! Родимые! И когда, и где конец! Остатки России уплывали по синему морю. Господи! Господи! Ты видишь!..
Жаркий полдень. Небо густого синего цвета куполом нависло над морем. В мареве тумана, подернутые дымкой, синеющие, как спелая слива, дремали на горизонте фиолетовые горы Малоазийского берега. Розово-золотой берег, точно выложенный перламутром, таил в глубоких далях очаровательные сказки волшебного востока. Между берегом и островом залёг широкий пролив. Недвижно застыл на синих волнах серый, тяжёлый, неуклюжий броненосец и под белыми парусами шёл мимо острова большой трёхмачтовый бриг.
Гордо надулись его паруса и бросали тени и розовые отражения на синюю глубину моря. В белую пену разбивалась вода у его носа и чудилось, что слышно её задумчивое шипение под белым, золотыми украшениями покрытым килем. Как чайка над морем, как мечта в часы раздумья, как грёза детства манил он за собою стройностью мачт и такелажа, и чудилось, что несётся он в волшебные края невиданной красоты.
Братья Полежаевы, Оля и Ермолов задумчивыми глазами следили за чудесным бегом его.
Они сидели на полугоре, на каменном крыльце богатого дома, на острове-игрушке с рощами цветущих миндалей и персиков, среди апельсиновых садов и мраморных вилл. Над ними недвижно нависли листья белой акации и кисти душистых цветов пряным ароматом поили воздух. Две лохматые драцены росли у крыльца, а вдоль выложенной камнем лестницы причудливые агавы разбросали во все стороны мясистые зубчатые листья и чудилось, что они живые, цепкие и страшные, как змеи. Бледно-розовые розы цвели в саду. Пониже, за железной решёткой, горело на солнце белое, меловою пылью покрытое шоссе, и было больно смотреть на его сверкающую ленту. Временами маленькие ослики пробегали по нему, неся на малиновых бархатных сёдлах нарядных гречанок в больших шляпках, толстых греков в белых или нежно-сиреневых фланелевых костюмах. Босоногие турчонки бежали за ослами. Звонкий смех и женские голоса по-праздничному весело раздавались кругом.
По то сторону шоссе была дача. Сквозь широко раскрытую дверь, обвитую цветущими глициниями, в лиловом сумраке, какою-то грёзою казалась зала с мраморным полом, где две девочки, в коротких белых платьях и с босыми ногами, сплетясь худенькими нежными руками под звуки неслышной музыки, танцевали странный танец, похожий на польку. И казались они не живыми, но фреской старой Помпеи, воскресшей здесь и движущейся в лиловом сумраке, на мраморном полу пустынного зала.
За дачей ажурная мимоза раскинула золотые ветви и сквозь её причудливую рамку глядело синее море и берег, опьянённый тихо шепчущим прибоем, ресторан со столиками и над ними ветви могучих карагачей.
Праздник весны был кругом. Сновали, шумя тяжёлыми колёсами, большие белые пароходы, переполненные пестро и ярко одетым народом. С пристаней махали платками и что-то радостно кричали. Весело расходились по золотистым дорожкам к рощам плоских пиний парочки с маленькими свёртками, и их движения казались лёгкими и гибкими, как движения лани. В жарком воздухе срывался звон мандолины и греческая песенка шаловливо порхала у ресторана возле столиков под тентами. Ослы уносили приехавших в горы, откуда так бесконечно красив был горизонт, сверкающий перламутровыми берегами рядом с густым, тёмным, морским сапфиром.
Острова-игрушки были созданы для мимолётных утех любви. Их назвали Принцевыми островами, а море назвали Мраморным, и на них были дачи только богатых людей, сады с душистыми цветами, рестораны и кафе, да весёлые ослики для подъёма на гору, чтобы оттуда любоваться видами на оба материка Старого Света. На них были танцующие девочки, поющие птицы, играла музыка, звенели гитары и неслась песня из каждой таверны. И сюда-то, к берегам нежного моря, под глубокое синее небо прибило бурей страшное, мучительное, кровавое русское горе, нищету беженскую. И не тешила красота вида, но оскорбляла. Не чаровал аромат напоенного цветочною пылью воздуха, но будил отчаяние от сознания своего несчастия. Не прельщали танцующие девочки и звон гитар и мандолин, но навевали мучительную тоску по потерянной Родине.
В этой красоте, среди апельсиновых и лимонных рощ, люди грезили о белых берёзах, о тонколистных ивах, о зелёных лугах, покрытых пёстрым ковром скромных цветов Русской равнины. Глядя на фиолетовые горы, тонущие вершинами в мареве синего неба, думали о бесконечном просторе голубо-жёлтых степей, о едком запахе кизячногодыма. Слушали песни греков, весёлые взлёты скрипок, а вспоминали лай деревенских собак в степи ночью зимой, да глубокие снега и маленькие хаты, мерцающие жёлтыми огоньками окон.
На каменную площадку подле крыльца, окружённую розовыми кустами, вошла девочка лет семи. У неё было загорелое худощавое лицо с большими синими глазами. Прекрасные русые волосы покрывали всю её спину густыми волнами от природы вьющихся прядей. На ней было розовое платьице, местами порванное и грязное. Худые, тонкие ножки были босы и изранены о камни. Её личико, с маленькими пухлыми губами и плутовски вздёрнутым носом, было очаровательно. Но глаза смотрели не по-детски серьёзно, печально и вдумчиво.
Она оглядела своими синими глазами Полежаевых, Олю и Ермолова. Ермолов и Павлик были в английских потрёпанных френчах с погонами Корниловского полка, в стоптанных, сбитых сапогах, Ника был в старом пиджаке, в платье, купленном на дешёвке и плохо пригнанном. Он походил на рабочего.
Девочка остановилась против них, ещё раз осмотрела их, как будто желая проверить свои впечатления, и удовлетворилась ими.
Она стала в позу, закинула назад ручонки и детским, верным, неустановившимся, но умело выговаривающим слова голосом запела:
Цыплёнок дутый
И необутый
Пошёл по улице гуля-а-ать…
Его поймали,
Арестовали,
Велели паспорт показа-а-ать…
Я не кадетский,
Я не советский,
Я не народный комисса-а-ар…
— Где же ты научилась этой песне? — спросила Оля.
— В Кисловодске, тётя одна научила, — сказала, потупляя глаза и прикладывая маленький пальчик к губам, девочка.
— Я и ещё знаю, — сказала она.
Она сделала серьёзное лицо, нахмурила брови и запела:
Вместе пойдём мы
За Русь святую,
И все прольём мы
Кровь — мо-о-лодую…
Близко окопы,
Трещат пулемёты…
Она прервала пение и сама уже пояснила:
— В Новороссийске офицер, который с мамой жил, учил меня петь.
— А где твоя мама? — спросила Оля.
— Мама утонула, — печальным голосом сказала девочка.
— Когда?.. Где?..
— В Одессе. Мы хотели уходить, когда большевики пришли. Сели на лодку, мама ухватилась уже за трап, а француз её оттолкнул. Она и утонула. Так и не видала я больше мою мамочку… Меня французы взяли. Они меня сюда привезли. Они тоже петь учили. Я знаю.
Девочка снова запела, совершенно правильно грассируя слова: