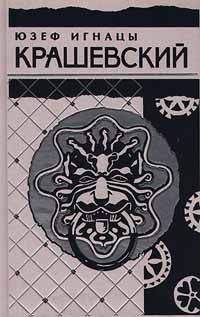с Марциновой, Агату, поверенную княгини, пана Пудловского, сениора бурсы, известного среди множества своей поломанной фигуркой, еврея Хахнгольда, который прохаживался в тёмной галерее и измерял взглядом входящих и выходящих.
Все беспокойно смотрели на дверь лаборатории Дурана и ждали своей очереди. Пан Кжистоф спускался с Ленчичаниным по лестнице, поглядел на сову и воскликнул:
— Негодяи! Вот сколько людей ждёт их советов и предсказаний. Если бы они мне так хорошо за жильё не платили, я никогда бы их тут не держал. А ночью как начнут жарить, то смердит на весь дом, так что все мои соседи жалуются. Непонятно, чем они так воняют, потому что эти запахи ни на что непохожи.
— А знаете, что и я был у них, — сказал Ленчичанин.
— Ну, а ты там зачем?
— Советовался по поводу ноги.
— Что тебе дали?
— Очень эффективный пластырь; а какие любезные, угощали пивом, неплохое, кстати, мы долго беседовали. Правда, этот поменьше слегка отвратителен, но если человек результативный, то результативный! Нога зажила за три дня.
— Только ты не пропел им чего лишнего?
— За кого вы меня принимаете?
И они спустились вместе на улицу, направляясь в ближайший трактир.
В доме князя Соломерецкого новые дорожные приготовления, все слуги на ногах, седлают приведенных коней, а свора евреев-ростовщиков, чёрных пиявок, крутится во дворах.
Князь, всегда нуждающийся в деньгах, так привык к богатой и расточительной жизни, что изменить её уже не мог; в этом лихорадочном нетерпении он отдаёт последние драгоценности в заклад, памятки от отца, памятки от матери. Рой евреев лезет в комнату, где старший придворный оформляет эти постыдные и унизительные сделки. Одни расталкивают других, ссорятся, потому что каждый хочет прибыли; дают себя бить, поносить, ругать, а не уступают.
Князь с равнодушием большого пана не смотрит, даже не спрашивает; достаёт драгоценности, смотрит на них без слезинки в глазах, без жалости, обсыпая оскорблениями ростовщиков, которых сам вызвал. Ему нужны деньги на дорогу, последние способы достать их он исчерпал, друзья дать в долг не хотят; он обратился к евреям.
В уголке кампсор Хахнгольд рассматривает нить жемчуга и кольцо с сапфиром; другой взвешивает серебряный позолоченный сосудик с тазом. На придворных князя это производит неприятное впечатление, шепчут между собой, оглядываются, колеблются.
— Слушай, Миклас, — говорил один старший юноше в зелёном цвете, — что-то тут у нас плохим пахнет. Евреи берут остатки.
— А что нам до этого?
— Очень важно, Миклус. Это попахивает крахом и бедностью. Остатки! А потом может и хлеба не хватить. Нужно о себе думать.
— Я думаю, что ещё есть время, ничто не торопит, будут у него деньги.
— А! Будут! Разве этих денег хватит надолго? Жидовский грош быстро расползается, я бы сказал, что спешит возвратиться к ним назад. И за эти нити с жемчугом ненадолго его хватит, но еврей иначе как половины стоимости не даёт.
— А стало быть, что?
— Нужно думать о себе. Я, возможно, взяв коня и забыв о вознаграждении, сбегу искать другого пана.
— Скажи и мне, когда, тогда и я с тобой.
Подошёл другой, подслушав разговор.
— Не спешите, паны братья, удача ещё может к нам повернуться. То есть экстраординарный казус, мы выиграем битву с её светлостью княгиней и будем богаты.
— Ежели выиграем.
— Это не подлежит сомнению.
Какой-то чужак подошёл к придворным.
— Паны братья, вы принадлежите ко двору князя Соломерецкого?
— Так точно.
— А вы не хотите сменить господина?
— Почему нет, если бы представилось что-нибудь хорошее?
— Отлично, может представиться.
— Что такое?
— Княгине Соломерецкой нужны придворные для себя и сына, двойная оплата и цвет, а кто знает, что будет дальше?
За верную службу. Её обещание — свято, и есть, с чего получить.
Старший возмутился.
— Княгиня! Враг господина.
— Ба! А что она вам сделала?
— И очень много. Из-за неё наш князь такой голый, что жалованье заплатить нечем, а на дорогу драгоценности закладывает.
— Кто виноват? Ведь княгиня ему давала состояние, если бы только он не преследовал ребёнка.
— И он не принял?
— И слушать не хотел. А притом княгиня своим придворным могла бы дать какое-нибудь вознаграждение, что бы покрыло это невыплаченное жалованье.
— В самом деле?
— Я думаю.
— Вы от неё?
— Нет, меня только просили поискать. Я полагал, что, видя, что тут делается, вы захотите, может, обеспечить себе более безопасное будущее.
Придворные начали переговариваться.
Новость как молния пролетела между ними; старшие, за ними младшие начали колебаться; а когда раз они допустили возможность покинуть князя, эту мысль укрепили всевозможные обстоятельства. Кто-то, забрав своих лошадей из конюшни, собирался ехать.
В воротах их поймал старший.
— Куда вы, господа? Куда?
— Здесь уже, по-видимому, делать нечего; мы едем искать службы.
Как только один отважился это сказать, остальные пошли за ним. Незнакомец с равнодушным лицом ждал недалеко от ворот. Старший побежал к князю.
— Двор вашей светлости, — воскликнул он, задыхаясь, — придворные…
— Что случилось?
— Уезжают…
— Как? Куда?
— Бросают службу.
— По какой причине? Этого быть не может.
— Бог знает, наверное, испугались сегодняшней утренней истории с евреями.
— Подлецы! — произнёс гордо побледневший Соломерецкий. — Пусть едут и свернут себе шею! Не задерживать их, заплатить вознаграждение последними.
И он стиснул зубы, его глаза заискрились, упал, бледный, на стул.
— Слышишь? Последними им заплатить, не хочу их теперь, найду других, не хочу, если бы меня на коленях просили. В этом есть чей-то навет. Иди.
Старший вышел и позвал со двора отъезжающих:
— Паны братья, — сказала он, — как хотите. Его светлость просил меня заплатить вам вознаграждение и коней, прошу ко мне.
Это неожиданная новость поколебала придворных, они бросили коней, пошли получать деньги, несколько, думая, что ошиблись и стыдясь своего шага, хотели остаться. Старший объявил, что имеет поручение уволить их. Другие, верные князю, даже не думали об отъезде; но таких осталось только несколько, другие выехали за ворота с незнакомцем, который вёл их с собой, шепнув что-то Хахнголду. Еврей побледнел, промямлил что-то другим евреям, и ростовщики в мгновение ока бросили ещё неоценённые драгоценности и, не желая уже входить ни в какие соглашения, ушли.
Старший побежал к князю.
— Ваша светлость, евреи не хотят вступать в переговоры.
— Что с ними случилось?
— Не понимаю, не понимаю; они пошептались между собой, бросили соглашения и пошли.
— Все?
— Все.
Князь был ошарашен.
— В этой есть какие-то дьявольские козни. Деньги! Деньги и ехать! Они этого проклятого ребёнка увезут снова! В Литву, в Литву. Делайте, что хотите, а достаньте мне деньги.
— Я не знаю, что мне делать; ничего не осталось, когда