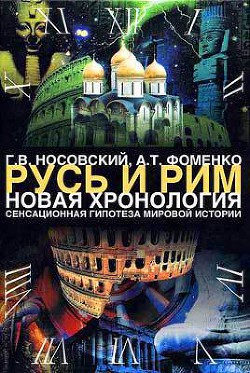еще и бояре думали так же! Так нет… Даже Добрыня не однажды высказывал свое неудовольствие им, его медлительностью, и это неудовольствие с летами упрочнялось. И, если бы не глубокая родственная привязанность к Большому воеводе и не терпение, прежде чуждое Владимиру, он расстался бы с ним. Впрочем, расставание, хотя бы горестное, неизбежно. И это, наконец-то, поняли оба, но с нежностью, пускай и прерываемой вспыхивающей неприязнью, относясь друг к другу, оттягивали его. Но долго ли так будет продолжаться? На прошлой седмице у них случился разговор, острой болью отозвавшийся в сердце Владимира. А было так… Рассказал Владимир о встреченном им на Перуновой отмели мальчонке и о слезах его, а еще о желании своем разыскать мальчонку и помочь ему. Добрыня нахмурился, спросил с досадой в голосе, чуть отяжеленном летами, но не утратившем прежней силы:
— Великому ли князю обращать внимание на такую малость? Что, все у нас в отчине улажено?
Владимир с недоумением посмотрел на Добрыню:
— Ты о чем?..
— Когда ты однажды сказал, что вера во Христа стала бы высшим благом для русских племен, если бы они приняли ее, я поддержал тебя. Воистину, един Бог на небе, едина власть Государя в племенах. И я всегда был рядом с тобой и в утверждении новой веры, и в собирании русских земель. Их теперь под твоей рукой девятнадцать. Но что же дальше? А дальше надобно укреплять власть, не ведая сомнений. Но ты, княже, мнится мне, взял из Учения Христа лишь жажду творить добро для сирых и слабых, запамятовав про остальное, отчего и в делах теперь не так расторопен и четок. А Русь меж тем не вся собрана, и во многих осельях, как в старые леты, поклоняются русских Богам, а о власти Великого князя только и вспомнят. И Могута, видя твою слабость, опять подымает рати в деревлянах и в дреговичах.
— Чего же ты хочешь?
— Сильной власти, ибо ты помазанник Божий! Чем ты хуже царьградского Кесаря? Что, земель у тебя меньше, злата ли, серебра ли, иль войско твое слабее?..
— Всему свое время, боярин.
— Почему снова ввел виру [15] за смертоубийство? Разве мало в лесах разбойников? Иль не в устрашение лихому побродяге прилюдная, на вечевых торговищах, казнь за смертоубийство?
— Ой ли? Тебе ли говорить, что не страшна смерть русскому человеку? Он и на плаху идет весело и спокойно кладет голову под топор. Нет, боярин, прилюдная казнь — это только сеяние смуты. Не последнего ума были наши дедичи. Да воздается им в другом мире!
Воевода выслушал Великого князя и ушел, пуще прежнего помрачнев. Нет, не будет меж них ладу! Горько! С малых лет Владимир привык видеть в Добрыне надежду и опору, но с летами многое начало казаться иначе и уж не очень-то радовала подвластность чужому, хотя бы и справедливому суждению. Нередко мнилось угнетающим сущее в нем. А Добрыня не понял этого. Не смог. Не осознал, что благостно не подчинение чужой воле, пускай и сильной, но собственной, от сладостного приятия мира. Сказано, блаженны милостивые… И высокое Небо, раскрывшееся перед человеком, оттого и притягивает к себе, что есть в нем манящая непознанность, и она неиссякаема. Всяк черпает из нее тепло и утешение. Когда бы исчезло животворящее соединение земли и неба, иль не сделалось бы в человеках пуще прежнего смятенно и непонимающе в сути всесветной жизни? Да что она стала бы в человеках, если бы разорвали благую связь души и тела? Иль не поломалось бы, не порушилось бы в сущем?..
Ныне во Владимире все примеренно, прежде волновавшие страсти потеснились, уступили место пронзительно ясному, от божественного Слова отъятому. Он сказал Добрыне, что всему свое время, понимая под этим нечто большее, чем обозначали слова. В самом деле, что значит, всему свое время? И когда наступает тот момент? И отчего непременно надо собственное деяние определять всесветным понятием времени, которое безмерно?
Владимир попытался приуменьшить досаду, клокотавшую в голосе у Большого воеводы, но из этого ничего не вышло. И он вдруг понял, что близкий ему человек только потому и не воспротивился новой вере, что увидел в ней защиту Великокняжьего Стола от посягательств извне, но не Свет, исходящий от нее. Обидно! Уж кто-кто, а Добрыня, имея в душе и от этого света, явленного ему отчей землей, должен был бы потянуться к нему всем сердцем. Кто на Руси не дивовался на него, когда он брал в руки гусли и, обратив взор в ясную даль и точно бы прозревая там удивительное, во славу Руси, в утверждение ее великого стояния среди чуждых народов, зачинал песнь?.. И это был другой человек, мягкий и добрый, великодушный. Ах, если бы он почаще обращался к своей сердечной укоренелости! Тогда не легла бы промеж них борозда.
Владимир сидел в светлице, чуть наклонив седую голову и задумавшись. Подле него Марк Македонянин, он мысленно сравнивал князя Руси с болгарским царем Симеоном, во дворе которого жил какое-то время, и полагал его несходным с болгарским властителем, подпавшим под влияние царьградских вельможей и перенявшим от них коварство. Марк Македонянин думал, что с Божьей помощью напишет о русском князе, и сие будет благо для тех, кто придет в эти земли после него и не останется равнодушным к деяниям поднявшихся на них.
— Ездил к Рогнеде, — тихо, как бы для себя, сказал Владимир. — И поразился перемене в ней. И не потому, что она стала черницей возле таких же, как и она, ищущих уничижения собственной плоти и возвеличения духа. В ней и раньше жило это, от истинной веры, только было неведомо ей самой. Дивно другое — сколь многомерна душа человеческая?! Где предел ее?!
В окошко светлицы лился, струясь и взбрызгивая скользящими потеками вечерних теней, свет уходящего дня. Но Марк Македонянин не замечал этого, как и того, как вокруг делалось сумеречно и привычные предметы меняли очертания и казались преисполнены таинственности, сдвигающей в их исконном предназначении. Он, все более и более отступая в расширяющуюся тень, слушал Владимира.
Посреди Могутова остережья стоял терем о трех ярусах с резными столбами, увенчанный янтарным кумиром Рода, который есть праотец сущего. Тут жила с близкими ей людьми Лада, она часто встречалась со странниками, от них и узнавала, где ныне ее муж, и радовалась, коль скоро вести оказывались добрыми, и огорчалась, когда слышала горестное. Но в том и другом случае, как и подобает жене светлого князя, скрывала свои