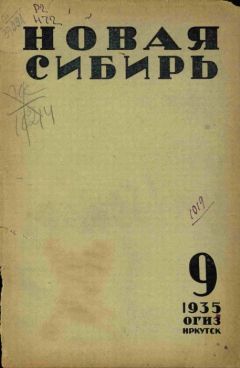— Будьте вы прокляты, насильники!..
Его голова исчезла под мешком, голос захлебнулся. Захлестнутая за шею петля перетянула шею. Скамейка, вышибленная ударом палачёвой ноги, отлетела в сторону...
В толпе всхлипнули. Истерически закричала женщина. Рванулись крики:
— Палачи!.. Долой! Долой!..
Солдаты угрожающе наставили ружья на толпу.
Вторым потащили к виселице Осьмушина. Он уцепился за Нестерова, но палачи быстро справились с ним. Слесарь успел обхватить его и прижал к себе, как сына. Тогда Осьмушин обмяк и, уже не сопротивляясь и вряд ли ясно понимая происходящее, отдался в руки палачей.
Очередь дошла до Нестерова. Он кашлянул в последний раз и с тоскою посмотрел на стоявшую в отдалении толпу. И вот из толпы в разных местах закричали:
— Прощай, Нестеров!..
— Прощай, товарищ!.. Мы не забудем!..
— Мы не забудем!..
Нестеров поднял руку, пытаясь послать последний привет кричавшим, палачи схватили его за руки, связали, накинули мешок...
Гольдшмидт крикнул:
— Долой самодержавие!.. Да здравствует социализм!..
Он вскинул голову, его лицо стало белее бумаги. Его глаза сияли.
— Да здра...
И его голова исчезла под мешком...
Толпа рычала. В толпе плакали. В толпе кричали. На толпу двинулись солдаты...
Четверо мертво висели, покачиваясь от ветра. День начинал сиять солнцем...
...Елена перестала плакать. Она всхлипнула, вздохнула, подошла к столу, на котором разложены были краска, валик, бумага, и принялась за работу. Матвей кончил набор листовки. Ее можно было уже печатать.
Листовка начиналась крупным, четким заголовком:
«Долой палачей!..»
41
Пал Палыч переживал сквернейшие минуты своей жизни. Его вызвали в канцелярию губернатора и объявили, что газета будет немедленно закрыта, а он, редактор, подвергнется серьезным репрессиям, если «Восточные вести» не займут приличную для благомыслящей части общества позицию.
— Имейте в виду, — заявили Пал Палычу, — губерния объявлена на военном положении, и мы вас можем уничтожить в двадцать четыре часа!..
У Пал Палыча готовилось сорваться с уст возражение, что ведь существует манифест семнадцатого октября, что населению высочайше возвещены и дарованы свободы, в том числе свобода печати, но он поглядел на непроницаемые лица чиновников и промолчал. Зато дома у себя и в редакции он дал волю своему негодованию.
Секретарь редакции молча слушал его и прятал в глазах лукавые огоньки. Лохматый секретарь не разделял веры редактора в законность, в высочайший манифест.
— Ну, и что ж! — сказал секретарь, — ну, и раздавят в двадцать четыре часа! Чего тут толковать!..
— Но ведь это произвол! Чистейший произвол! — схватился Пал Палыч за голову. — Куда мы идем? Что будет?!
— Ничего хорошего ждать нечего... Глядите, сколько каждый день арестовывают людей. Опять взяли Скудельского, а ведь человек очень спокойно себя вел! Я даже удивлен, что ни вас, ни меня не трогают!..
В типографии Пал Палыча встретили хмурым молчанием. Он оглядел рабочих и заметил отсутствие Трофимова.
— А Трофимов где? — спросил он.
— Арестовал Трофимов, — сообщил метранпаж. — У нас пока его одного забрали, а в губернской человек четверых...
В день казни Нестерова, Гольдшмидта и других Пал Палыч ходил по редакции темный и молчаливый. Он ни с кем не заговаривал и его никто не тревожил. Молчал и секретарь. К вечеру Пал Палыча снова экстренно вызвали в канцелярию губернатора, откуда он вернулся взбешенный и пришибленный одновременно. О чем беседовали с ним в канцелярии и какие новые требования и условия пред ним поставили, он никому не сказал. Но видно было, что чем-то он встревожен, обижен, озлоблен. Только жене своей поздно ночью, прислушиваясь к каждому шороху, доносившемуся через двойные рамы с улицы, горестно сказал Пал Палыч:
— Подлые времена мы, мамочка, переживаем!.. Подлейшие!..
— Не волнуйся, Павел! Ради бога, не волнуйся! — успокоила жена. — У тебя слабое сердце... Успокойся!..
— Да как же не волноваться?!
Немного успокоился назавтра Пал Палыч, когда к нему пришел Чепурной. Адвокат имел озабоченный, но бодрый вид. Он принес свежую статью и настаивал на ее помещении в газете.
— Необходимо выступить с трезвыми мыслями, Пал Палыч! Понимаете, кругом беспорядок, смятение, испуг, а мы — с должной выдержкой, как подобает настоящим политикам! Тем более, что все-таки впереди государственная дума! Надо готовиться к выборам. И если мы поддадимся с вами настроениям момента, то ничего хорошего из этого не получится... Я, как юрист, прекрасно вижу и понимаю, что происходит, между нами говоря, прямое беззаконие... Этот приговор над четырьмя, ведь он вынесен был в обстановке полнейшего забвения всех и всяких правовых и процессуальных норм. Но, повторяю, это все временное!.. Вот тут я в своей статье, правда, осторожно, говорю о праве и законности. Кто вдумчиво и внимательно прочтет, тот поймет, в чем дело...
Пал Палыч слушал Чепурного внимательно. В глубине души он возмущался и словами адвоката и его статьей, но, в конце концов, Чепурной — чорт бы его брал! — прав!.. Нечего на рожон лезть. Тут только пикни, и засадят, а кому от этого какая польза? Никому...
И, говоря совсем не то, что надо, он, вздохнув, поделился с Чепурным:
— А от Шурки своего я так ничего и не имею... Беспокоит это меня. Волнения везде происходили, а кой-где еще и не прекратились. Не попал бы он... Студенты в первую голову...
— Будем надеяться, Пал Палыч, что все окончится благополучно.
— Да, будем надеяться... — неуверенно согласился Пал Палыч.
Собираясь уходить, Чепурной вспомнил:
— Как это случилось, что эсдеки во-время спохватились и не полезли в драку? Я был все время убежден, что они поведут рабочих дальше, не сложат оружия... Есть, значит, у них головы!
— Конечно... — неопределенно произнес Пал Палыч.
Проводив Чепурного, Пал Палыч засел править принесенную статью. Просматривая ее с карандашом в руках, он часто отвлекался от работы и задумывался.
Он думал о неприятностях, которые еще ждут его и газету, о непрекращающихся арестах, о казни четверых, которая, повидимому, не будет последней. Он вздыхал и морщился. По совести говоря, конечно, отчасти правы те, кто решительно и смело выступают против существующего строя и нисколько не верят манифесту. Но где же силы? Силы где, чтобы бороться?!
Пал Палыч не знал этого, не верил в массы, в народ, в пролетариат. Пал Палыч знал Россию неумытую, лапотную, отсталую... Ах, как заблуждаются, как обманываются социалисты, социал-демократы, надеясь на эти массы, на этот пролетариат!
Статья Чепурного правилась нелегко. Витиевато и напыщенно адвокат писал о порядке, который необходим для того, чтобы народ смог воспользоваться «высочайше дарованными» милостями. Пал Палыч с раздражением и насмешкой выправлял стиль Чепурного: статью надо было давать в завтрашний номер.
42
Галя несколько дней не видала брата.
Беспокойство не покидало ее. Утром, уходя от подруги в город, она искала возможности где-нибудь встретиться с Павлом, но нигде его не встречала. А каждый день приносил все новые вести об арестах. И Келлер-Загорянский готовил, как слышно было, новый «процесс» против группы захваченных им революционеров. Все это тревожило девушку. Она боялась, что Павел попадется, а быть арестованным в эти дни было очень опасно.
Встретилась она с братом случайно, и встреча эта поразила ее, и потом Галя много раз вспоминала, каким был и как вел себя с нею брат.
Галя пришла к дальним родственникам, к которым они изредка заходили вместе с братом. Там охали и ахали по поводу событий, по поводу казней, по поводу того, что жизнь совсем расстроилась и стала неустойчивой и опасной. Гале советовали ехать к отцу в деревню.
— Поезжайте, Галочка. Переждите там в глуши, пока все уляжется. Зачем вам торчать в городе?
О Павле родственники тоже давно уже ничего не слыхали и беспокоились о нем. Галя собиралась уходить от родственников, когда неожиданно пришел Павел. Брат и сестра встретились необычайно горячо. Павел обнял Галю и с неожиданной лаской забормотал:
— Ах, швестер! Маленькая моя!.. Ах, швестер!..
Галя припала ко груди брата и радостно всхлипнула. Потом обоим стало немножко стыдно своего порыва, они оглядели друг друга и спокойней и проще стали расспрашивать о делах, о самочувствии.
— Я ничего, — сообщила Галя, — я у Зои обретаюсь. А вот ты как?
— И я ничего... — уклончиво сказал Павел. Лицо его стало непроницаемым, и он спрятал свои глаза от Гали.
Родственники напоили брата и сестру чаем. Родственники стали советовать Павлу тоже, чтобы он уехал к отцу, в деревню. Павел пил чай, крошил на скатерть калач, мгновеньями задумывался, выходил из задумчивости и становился очень возбужденным, шутил, смеялся. Галя присматривалась к нему и видела, что он неестественно возбужден, что у него есть что-то на душе, что что-то томит его и что он старается это скрыть. Когда напились чаю, брат и сестра остались в комнате вдвоем. Галя подсела к Павлу поближе.