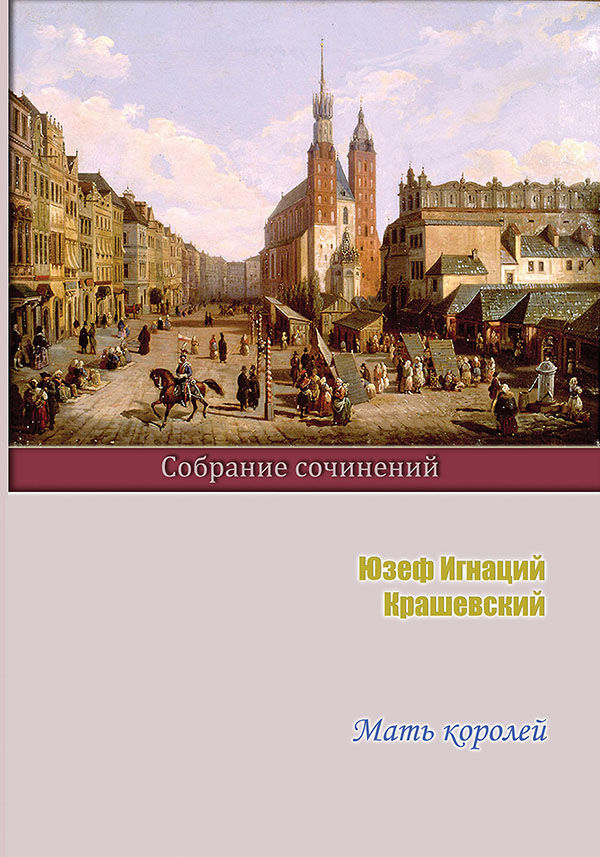не может быть нам безразлична. Дземма всегда надеялась, что король вернётся к прежней любви, грезила, что её приведут в замок, ежедневно ожидала внезапной счастливой перемены. Но эти надежды её жестоко обманули.
Когда король снова несколько дней не показывался на Троцкой улице, а Дземма не могла истолковать себе этого пренебрежения, хотя Бьянка пыталась её утешить тем, что у него были достойные гости и был очень занят, она уже потеряла терпение и хотела бежать в замок, но Бьянка, опасаясь её вспыльчивости, сама предложила её заменить.
Попасть в замок было нелегко. Одна его часть была недоступна, потому что там велись работы, в другой было тесно от толпы двора и урядников. Но итальянка была рассудительна, ловка и осторожна. Почти не привлекая на себя внимания, она сумела попасть к Мерло, любимцу Августа. – Мой милый пане, – воскликнула она, увидев, что он входит, – придумай что-нибудь для того, чтобы его величество король не был так жесток к бедной Дземме. Она сойдёт с ума от отчаяния.
– А что же я могу тут придумать? – ответил Мерло. – Наш король в Вильне, это не тот, что был в Кракове. Тут он должен глядеть во все стороны, потому что на него отовсюду смотрят. Любовь – это хорошо, но всей жизни отдать ей нельзя.
– Пусть он о ней не забывает! Он должен пожалеть её! – воскликнула Бьянка.
– А она тоже должна его пожалеть! – сказал Мерло. – Королю она всегда мила, но теперь, когда у неё есть муж…
– Муж? – рассмеялась итальянка. – Но это конюший, не муж. Он к ней на порог войти не смеет.
– О, это всё равно, – добавил придворный, который с удовольствием разговаривал с красивой, хоть увядшей, Бьянкой. – Всё-таки король опомнился, что взял жену, и думает о ней.
– Король? А в Кракове и знать её не хотел! – ответила итальянка.
– В Кракове было что-то иное, – начал доверчиво Мерло. – Определённо то, что теперь нашёл к ней сердце. В Кракове он боялся матери, а тут мы никого не боимся.
– Вы забыли, что у старой королевы длинные руки, – сказала Бьянка.
– Всё же до Литвы им будет трудно дотянуться, – ответил Мерло, – а если королева-мать любит сына, то жену у него отобрать не захочет, когда убедится, что он к ней привязан.
Итальянка начала смеяться.
– Привязался! Теперь! Не видя его! Что вы говорите! Вы надо мной шутите!
– Я говорю правду, – сказал Мерло, – и у меня есть на это доказательства. Я вам повторяю, что в Кракове было нечто другое, а тут другое намечается. Лучшее доказательство – то, что король ни о чём другом не думает, только, чтобы в замке как можно скорее устроить комнаты для своей пани, достойные её. Рабочие спешат как могут, а он сам почти каждый день спрашивает об этом. Привозит ковры, портьеры, картины и старается постелить гнездо красивое и мягкое. Хотите посмотреть? – прибавил Мерло. – Могу вас проводить. Комнаты уже имеют предназначение. Пойдёмте.
Сказав это, он повёл грустную и удивлённую Бьянку внутрь нижнего замка, где действительно крутилось много народа.
Одни полировали наружные стены, другие выкладывали в центре пол, вставляли окна, подгоняли двери, красили и забивали.
Мерло показал ей сначала комнаты, предназначенные для короля, потом общие, расположенные около спальни, разделяющей их, наконец для фрейлин, двора, слуг и для пани. Последние были более нарядные, светлые и радостные, словно хотели своей свежестью соответствовать молодости королевы. Под окнами сажали деревья и цветы.
Мерло объяснял ей предназначение каждой комнаты и, проведя так молчаливую девушку через весь ряд зал и комнат, которые в спешке доделывали, а часть их уже почти была готова для приёма, добавил тихо:
– Мне видится, что мы все ошибались, а бедная Дземма больше всех, когда так рассчитывала на королевскую любовь. Он знал, что делал. Теперь ему тут, в Литве, не пристало, бросив жену, любовницами хвалиться, потому что старшие паны плохо бы на него смотрели. Тут обычай более суров. А король ныне сам к жене не так расположен, как нам казалось. Видимо, он только притворялся равнодушным к ней, чтобы не подвергать себя опасности, преследованию.
Бьянка слушала, не веря ушам.
Мерло нагнулся к её уху.
– У короля с женой есть, наверное, тайная связь и договорённость. Я ничего не знаю, потому что и от меня скрывают, но я догадываюсь. Я говорю вам об этом потому, что мне жаль Дземму. Пусть напрасно не питает иллюзий. Что невозможно, то невозможно. Король наделит её приданым и поможет им в хозяйстве, но прежняя любовь не вернётся.
Итальянка была ещё так изумлена и испугана тем, в чём признавался ей Мерло, что сначала потеряла дар речи.
– Что будет с моей бедной подругой, – сказала она наконец, – я в самом деле не знаю. Она любит сейчас, может, больше, чем когда-либо, но о её судьбе никто, кроме меня, не волнуется. Такова наша доля, потому что мы служим вам только игрушкой. С Дземмой король сделает что ему угодно, но что будет с матерью? Думаете, Бона стерпит воссоединение супругов, которого не хотела, и поклялась их разлучить. Не забывайте, что пока старый король жив, она тут всесильна. Она очень любит сына, правда, – прибавила Бьянка, – но когда разгневается и начнёт ненавидеть, хотя бы собственному ребёнку, не простит измены.
Мерло покрутил ус.
– Неужели мы были бы вечно у неё в неволе? – сказал он потихоньку.
– Может, молодой король, – прервала итальянка, – слишком рассчитывает на материнскую любовь, думая, что она ему ради неё всё простит, но…
Бьянка, не заканчивая, по-итальянски, движениями рук и лица старалась показать Мерло, что Бона, однажды взбешённая, будет неумолима.
– Но мы от неё убежим в Литву, – со смехом сказал придворный. – Что нам тут делать?
Бьянка иронично улыбнулась.
– Увидите! – сказала она. – Что она сделает, я не скажу, но что не простит и сыну, в этом я уверена.
И, задержавшись на минуту, она задумчиво шепнула:
– Стало быть, у него есть тайные сношения с женой?
– Но я этого не говорю, – сказал немного растеряно Мерло. – Я догадываюсь, ничего не знаю. Гляжу, что он для жены всё обдумывает, слушаю, что каждый день только о ней говорит, я видела, что её изображение привёз с собой и разглядывает его каждый день… как же мне не подозревать, что он её любит?
Бьянка, которая принимала к сердцу историю своей подруги, стояла и слушала, заломив руки, и на её глазах появились слёзы. В её груди кипел гнев, может, пробуждённый тем, что это напоминало ей собственную судьбу.
– А значит, – сказала она спустя