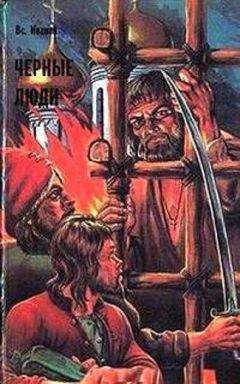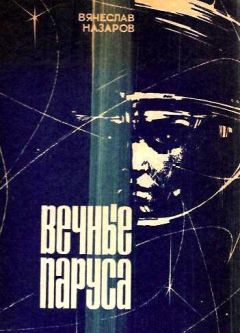— Дьявол! — бросил калека монету на прилавок. — Право, черт!
И схватил ковригу.
Война! Крик, брань, божба, ино и драки по торгам по всей земле, а когда ружье в дело идет, люди ратные гневны— обыкли в ход сабли, да топоры, да ножи пускать.
И идет торг с великой лаею, беднеет, скудеет от такого царева жалованья народ…
А кто, сказывают под рукой, от скудости той самой и богатеет: прижать-то, обидеть, обобрать человека можно только при скудости. Когда у всех всего полно, лишнего с человека не возьмешь, да никому и не надо. Богатеют теперь по всей Московской земле денежные мастера да серебряного, оловянного, медного дела люди. В подвалах своих тайно они свою же медь серебряными ценами клеймят-чеканят. Кому разорение, кому счастье!
А за ними и торговые люди туда же, медь-то у них скоплена, и везут они, торговые люди, свою медь на Денежный двор, с боярами да с государевыми купчинами стакнувшись, бьют себе там воровские деньги с боярами исполу, вывозят да беднят народ. И хоть-то дело тайное, а оно всей Москве въявь.
Скупают те купчины в бесхлебице товары за медь задешево, а как не продашь, коли есть нечего, коли стрельцы на государевом медном жалованье и те с голоду мрут? Купцы те меха скупают под лопату, иноземцам за серебро да золото продают да запасы прячут — хлеб, да поташ, да пеньку дешево покупают на заморский торг… А Денежным двором ведают царев тестюшка, Илья Данилыч Милославский, да его племянник, Матюшкины-дворяны да их ближний человек, государев купчина Шорин Василий Григорьич, черный ворон, да с ним купчина Задорин Семен, его богатейший компаньон. И вся Москва знает про дела тех людей доподлинно.
Мошенники они, мошны они себе набивают на народном горе, а народ — животы подтягивай туже.
Война как топором на две стороны разрубила народ московский, одних отделила от других — несчастных от удачливых. Удачливые, жадные, бессовестные богатели, давили других — бедных, совестливых, хоть таких было больше… Ну, тем и оставалось одно лишь — по старому обычаю бунтовать, искать правды.
А попробуй забунтуй! Бояре давно уж забыли, как народ землей выбирал себе царя, выучились они, как те бунты кончать.
Знает народ то, что в иных кремлевских башнях каменные глухие мешки поделаны, откуда выходу нету. Знает он, что под царевыми высокими палатами есть подземелья — «черные палаты» зовутся, — где погибают заживо те, кто помыслит супротив государя да против бояр.
Всем, всем ведома хитрая да крутая боярская повадка, все знают, а сами молчат. Как заговоришь, когда кругом шныряют царские истцы? Когда на Рву на Красной площади и за Москва-рекой, на Болоте, стоят наготове и плахи, чтобы рубить головы, и виселицы, и колесья, и срубы готовы, чтобы в них жечь людей? А Лобное-то место куда девалось?
И народ московский не сразу подымался против неправд, — тогда, когда больше уже не мог молчать, не мог терпеть. Тогда говорили все, единым языком выкладывали всю правду, ничего тогда уже не боясь, кричали все в открытую, падая на колена, разрывая рубахи, обнажая волосатые груди свои с медными крестами: вот она, душа, нараспашку вся!
А до того говорили люди разве только в кабаках, выпив царева зелена вина, когда по колено становилось любое море. И в кабаке Балчуге в тот день с утра сидит много народу, тоскуя по правде, мучаясь от несправедливостей, заливая ум, совесть, сердце свирепой водкой…
На Болоте солнце, на полдня царевы сады цветут, а у Балчуга-кабака кондовые бревна еще больше скосились да потемнели, на шесте над сулейкой, вытягивая шею, каркала ворона.
Заскрипела дверь, ворвалось в темницу солнце с Ордынки, и в солнце встала в дверях черная плечистая фигура в скуфье на длинных волосах, в черной однорядке, с палкой в руке, с мешком за плечами.
— Преисподняя земли! — сказал, входя, чернец и перекрестился.
Шибануло крепко кабацким пропитым духом, сивухой, немытым телом, кислой овчиной, прелой обувью, оскорбленной, несчастной землей; клубился табачный проклятый дым; в узкие окошки вонзились столбы солнца, вырывали из тьмы то лысый лоб со шрамом, то безумные глаза из-под седых косм, бурый рот с зубами решеткой… Кабак дышал скорбью, гневом, обидами, яростью, проклятьем, сочился общей душевной болью, как вот сочится зелено-желтым гноем огромный нарыв. В кабаке жила, страдала, говорила накаленная, оскорбленная душа черных низовых, мятежных людей, здесь всплывали и вскрывались пузыри в закипающей гневом воде. Питухи в разных позах — на лавках, на бочатах, на стульях — чернели, как могучие сивучи на морских лежбищах; хриплые грозные голоса неслись со всех сторон; кто-то богатырски храпел под столом целовальника; говорили во всех углах — страстно, надрывно, убежденно, перебивая друг друга, друг друга не слушая…
Чернец всматривался с порога, где бы сесть. Со Спасской башни донесся звон — полдень. Надо было дождать…
Монах у двери присел на бочонок к столу. Глаза после солнца приобыкли к сумраку, он уже разбирал лица.
Война! И здесь война! Об этом говорили ясно шрамы на скулах, на лбах, выбитые глаза, разрубленные ударом сабли рты, перевязанные руки, деревяшки вместо ног. Обидой войны были полны души этих людей, как их ковши крепким вином. Сутулый великан, положив широкие синие, как железо, клешни рук на стол, зажал в горсти стакан зеленого стекла, гремел, голосом кроя весь шум:
— Так в ту пору ушли мы с Риги. Обманули нас немецкие наши начальные люди, пожгли наши дощаники… А Рига — была бы наша она, я сам на стене уж рубился.
— На стене-е? На самой? — прищурился кто-то сбоку. Был виден один острый утиный нос, козлиная бородка, а голос был тоже тонкий, с издевкой. — Сруби-ил кого?
— Ага! Троих! Как рубану топором — мозги летят! Ну тут, правда, меня швед, весь в железе, тоже стуканул — я со стены…
— Так вот ты эдак со стены чебурахнулся, воин! — зазвенел утиный нос. — Сказывай, чем тебя царь-государь за то пожаловал? Медным серебром, медвежья твоя сила? А?
Богатырь взглянул прямо в вражье его лицо, усмехнулся, расстегнул ворот рубахи, снял с шеи серебряный крест.
— Целовальник! — рявкнул он. — Бери серебро! Давай осьмуху! Иль ты, страдник, думаешь, что серебра у нас не припасено? Ежели што, так и кресты сымем…
Вошедший чернец слушал, опустя глаза, — рылся в мешке, пока что доставая оттуда хлеб, лук, сушеную рыбу. На его спокойном лице не дрогнула ни одна черта. Перекрестился, стал есть. Подбежал малый.
— Корец вина дай-кась! — приказал и оторвал пальцами кусок рыбы. — В глотке пересохло.
С соседнего стола смотрел на него зорко чернобородый мужчина в бараньей казацкой шапке с красным верхом, с серебряным кольцом в левом ухе, с кривой саблей на поясе. Присматривался сперва, потом, подхватив свою сулейку, шагнул за стол к чернецу.
— Отколе? С Соловков?
— Ага! — отвечал монах, жуя рыбу. — А што?
— Однако видал я тебя там!
— Богу молиться к нам ходил?
— Людей больше добрых искал… Ладно живете вы на Соловках… Бога-то богато дело.
— Спаси бог на добром слове…
— Как подале от Москвы, так оно и лучше! Право слово! — говорил подсевший, в упор разглядывая чернеца. — И вам и нам!
— Кому это?
— Нам, казакам донским! Соловки на полночь, Дон на полдень, Москва посредине…
— Ну, у нас устав свой. Еже во святых отца нашего Феодора, игумена честныя обители Студийския.
— У нас устав тоже свой… Всевеликого Войска Донского. Тоже будто монастырь. А вот Москва к нам, да и к вам со своим уставом лезет.
— Да это я сам сюда, в Москву, рыбы привез…
— Вот. А как тебе, честный отче, Москва деньги за рыбу ту платит? Медным серебром?
— Что нам с ним делать, с московским боярским серебром?
— То-то и есть, — сказал казак, и голос его стал тише и значительней. — Москва вам свой устав дает, а нужен он вам, медный их тот устав?
— Да ты кто таков, парень, что так говоришь? — сказал монах, посуровев, и, выхватив кусок хлеба изо рта, бросил на стол. — Я тебя не знаю!
— А я тебя, отче, знаю… Ты отец Никанор, келарь соловецкий. Ездишь по городам по торгам. В Вологде однова жил… Верно?
Чернец молча наклонил голову.
— Был я у угодников соловецких на богомолье, видал тебя. Где ж тебе всех упомнить… нас тысячи у вас!
— И помогла молитва-то? — усмехнулся чернец.
— Не, я тебе сказывал. Людей я искал… По земле ходил. Был я в Новгороде и в Пскове. Не нашел людей… Воеводы там московские сидят, а где воевода, там людей не сыскать… Отошел к Соловкам, на Белом море тонул… А и крепкие там у вас люди, на Белом море. Таким бы всю нашу землю держать. Старым, вольным обычаем. А они — молчат! А московский обычай какой? Одно слово — медь за серебро! Омман!
— Царь того дела не знает еще, парень! — примирительно сказал монах, допив стопку. — А узнает — тем ворам мало не будет!