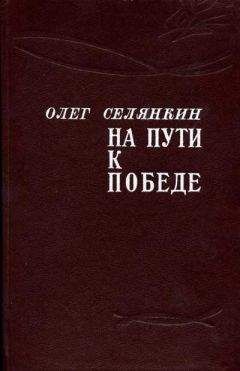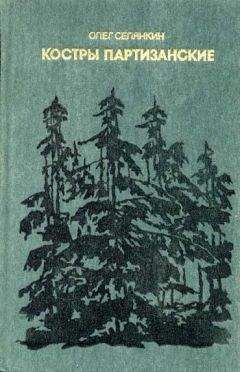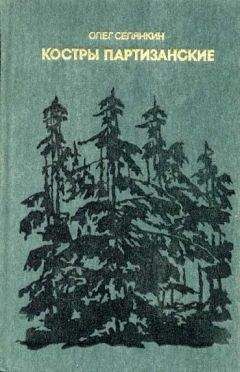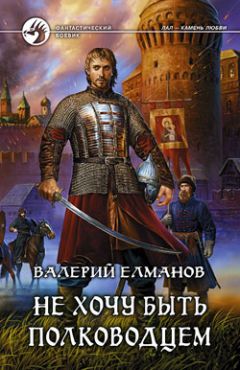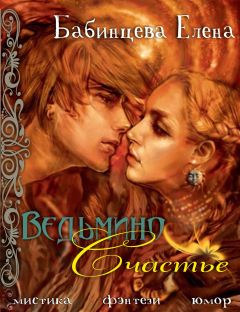Олег Селянкин
НА ПУТИ К ПОБЕДЕ
…Он мерз в окопах, гнил в болотах,
И видел тысячи смертей,
И понял, что война — работа
И нет работы тяжелей.
Иван Савельев
ОТ АВТОРА
Я бываю всегда невероятно взволнован, даже, по-своему, счастлив, когда мне удается встретиться с морем. Особенно — с Балтийским. И пусть оно менее величественно, чем Тихий океан, и пусть его берега не так красивы и впечатляющи, как черноморские. Оно все равно остается для меня самым желанным, самым прекрасным. Ведь встреча с Балтикой — встреча с моей юностью, встреча с друзьями, боевыми побратимами. И с живыми, и с теми, которых уже нет. А подобное всегда волнует по-особенному: невольно жалеешь, что беспокойная юность, когда жизнь твоя чрезмерно часто зависела от мгновения и неисчислимого количества случайностей, уже никогда задорно не заглянет тебе в глаза, что с каждым годом, вернее — с каждым прожитым днем, ты все дальше и дальше уходишь от нее.
Помню, когда я был совсем еще юнцом и впервые глянул на море, у многих просоленных моряков спрашивал: а довелось ли им увидеть зеленый луч? Тот самый, о котором так восхитительно написал Жюль Верн. Никто не ответил мне утвердительно. Да и я за годы флотской службы не видал его, зеленый луч. Ведь в дни моей юности, когда я все время был с морем, кровавые зарева плясали на небе. Не до зеленого луча всем нам было в те годы.
Море Балтийское… Оно то гневно рокочет, сокрушая берег белогривыми, неистовыми в своей слепой ярости волнами, то чуть слышно плещется или шуршит, накатываясь на плотные пески или ласкаясь к серым гранитным валунам, испокон веков дремлющим на его дне. Случается, море бывает и зеркально-гладким. Видя его зеркальным, я невольно настораживаюсь: мне-то прекрасно известно, что это лишь маска, что море лишь прикидывается таким ласковым, что, может быть, именно в эти часы в его глубинах зарождается что-то грозное, способное принести много бед. Но именно в те дни, когда море притворяется бесконечно ласковым, его белоснежные пляжи полны отдыхающих, именно в такие дни на его берегах гремят транзисторы, звучат самые развеселые песни и просто задорные голоса, а детвора возводит из послушного песка сказочные замки и даже города. Именно в подобные дни многие взрослые надеются увидеть зеленый луч или ищут кусочки янтаря. И как они ликуют, найдя хоть самый малюсенький из них!
Некоторые люди утверждают, что янтарь — затвердевшая частичка солнечного луча. Но я-то подлинно знаю, что янтарь — слезы матерей, которые не дождались своих сынов, осмелившихся уйти в бескрайнюю морскую даль. Поэтому, если мне выпадает счастье найти кусочек янтаря, я не кричу от восторга, а бережно кладу его поближе к своему сердцу.
И еще я люблю сидеть на берегу моря поздним вечером, когда почти безлюдно кругом. А еще лучше — глухой ночью. Когда нас всего двое: море и я. Правда, иногда присутствует еще и луна. Но нам она нисколечко не мешает: мы верим в ее умение хранить чужие тайны.
Именно в эти часы, случается, море вдруг и начинает откровенничать со мной, бесконечной чередой посылая ко мне свои волны, уставшие за день. И они, бывает, доверительно рассказывают, поют мне какую-нибудь быль. Чаще всего — славящую моих боевых побратимов.
Я внимательно вслушиваюсь в те сокровенные песни, а потом, как умею, записываю их. Некоторые из них поверяю вам, дорогие читатели.
Не скрою: мне очень хочется, чтобы вы сердцем почувствовали то, о чем поведали морские волны, мне очень хочется, чтобы вы по-настоящему поняли, каждой клеточкой своей поняли, на что способен советский человек во имя, во славу своей Родины.
ТОЛЬКО ВПЕРЕД! ДО САМОГО ПОЛНОГО!
ПОВЕСТЬ
Моему боевому другу капитану 1-го ранга А. И. Потужному посвящается.
Он приметил ее там, на островке, когда семьи военнослужащих и он, мичман Максим Николаевич Малых, в ожидании буксирного пароходишка грудились около такого маленького причала, что к нему одновременно пришвартоваться не могли даже два торпедных катера; женщин и детей командование эвакуировало с этого клочка советской земли, куда тоже нагрянула кровавая война, правда, пока лишь неистовыми бомбежками. А он ехал в Ленинград, где его ожидали приказ наркома о присвоении ему звания лейтенанта и назначение — конечно же! — на какой-нибудь боевой корабль. Только на корабль! И только на боевой!
О приказе наркома (под честное слово) сообщил всезнайка-писарь, выпросив за это ленточку с наименованием военно-морского училища, которое уже окончил мичман («Ведь у вас наверняка есть еще одна?»), а назначение на боевой корабль — его самое искреннее желание.
Девушку же приметил потому, что все отъезжающие держались семьями, всех хоть кто-нибудь да провожал, говоря обязательные в подобных случаях успокоительные и обнадеживающие слова, а она сиротливо стояла в сторонке одна, если не считать маленького чемоданчика, жавшегося к ее ногам.
Ей было лет двадцать, не больше. Почти с него ростом (а он неизменно ходил в первой шеренге парадного батальона), в меру фигуристая, сейчас она выпрямилась до такой степени, что казалась даже несколько нескладной; с пепельными волосами, уложенными по последней рижской моде, она стояла немного в сторонке от прочих и, как показалось ему, равнодушно, даже с неприязнью смотрела на Финский залив, над которым сегодня нависли плотные серые тучи.
«Гордячка и задавака!» — сделал он категорический вывод и отвернулся, стал тоже смотреть на невысокие и пологие волны, неспешно катившиеся на восток.
Когда началась посадка на небольшой буксирный пароходишко, мичман невольно снова увидел ее. Она, даже не кивнув хотя бы из вежливости, прошествовала мимо матроса, который всем помогал пройти по трапу на подрагивающую палубу. Она не полезла за другими и в кубрик, а сразу же, словно заранее, еще на островке, решила, что поступит именно так, прошла на корму и замерла там, демонстративно отвернувшись и от островка, и от людей, кричавших с берега прощальные приветствия и пожелания и тех, кому они были адресованы.
Мичман тоже прошел на корму. Нет, не из-за этой задаваки, а потому, что здесь было все же менее многолюдно, чем в любом другом месте на этом пароходишке; люди почему-то обязательно хотели иметь над головой хоть какую-нибудь крышу, пусть даже просто навес из брезента, но ее, крышу, словно она могла защитить, спасти их от прямого попадания фашистской бомбы даже самого большого калибра.
Максиму люди сейчас мешали, не давали возможности полностью сосредоточиться на том главнейшем, что он был просто обязан решить еще до прихода в Кронштадт или Ленинград. Решить самое важное для себя: куда, на какой корабль проситься, если будет разрешено высказать желание? Конечно, невероятно заманчиво получить назначение на линкор, крейсер или хотя бы эсминец: и огневая мощь у этих кораблей огромнейшая, и стать впоследствии командиром такого корабля (а в том, что со временем это обязательно произойдет, мичман Малых не сомневался) — честь высокая, можно сказать, прямая дорога в адмиралы.
Но сколько командиров самых различных рангов несет службу только в одной артиллерийской боевой части, например, на линкоре? Пальцев на двух руках не хватит, если начнешь считать! И он, лейтенант Малых, по старшинству окажется в самом конце этой длинной цепочки. Из сказанного вытекает вывод: годы минут, пока он пробьется хотя бы в вахтенные командиры. Или ему, Максиму Малых, кем-то дозволено так бездарно свою жизнь разбазаривать? Или ему не хочется по-хорошему карьеру сделать? Не за счет подлой подсидки кого-то, а честно, благодаря личному командирскому таланту, благодаря и другим своим качествам, в большие люди выйти?
А если так, то перед ним единственный выход: проситься на торпедные катера или морские охотники, ибо там любой командир — на вес золота, ибо там сама, напряженная до предела, жизнь не позволит выдерживать его в учениках.
Но попадешь на «москитный флот» — никогда тебе не участвовать в настоящем морском сражении…
Он был настолько поглощен своими мыслями, что потерял счет времени, сейчас не видел ни девушки, одиноко стоявшей у противоположного борта, ни чайки, провожавшей их от самого островка, ни вспененной винтом ровной дорожки, которая, рождаясь из-под кормы пароходишка, терялась где-то там между серой водой и придавившим ее таким же серым небом. Даже излишней дрожи палубы под собственными ногами не замечал, хотя в другое время именно по ней безошибочно определил бы, что старенькая машина напрягает всю свою силушку.