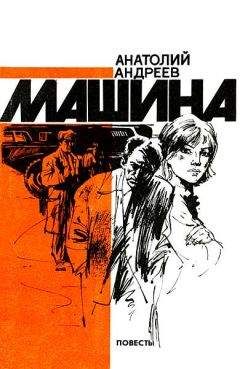Кучеров Анатолий Яковлевич
Трое
Аннотация издательства: Многообразный нравственный опыт военного журналиста отразился в повестях «Служили два товарища...» и «Трое».
Трое
Экипаж самолета Пе-2 состоит из трех человек.
Техническая документация
Они летали группой в операцию по кораблям. Экипаж Морозова потерял стрелка Костю Липочкина. Пуля прошила его тело.
На обратном пути Морозов передал, что его стрелок тяжело ранен, и, когда он приземлил самолет, у посадочной полосы поджидали врач, санитары и машина санчасти.
Был тихий весенний вечер. На взлетном поле зеленела трава, и воздух пахнул соками просыпающегося леса. Была суббота, и немногие оставшиеся в курортном городке жители собирались дома после дневных забот. В соборе на главной улице играл орган, шла служба.
Аэродром, и городок, и пустынный морской берег были, словно стеклянным колпаком, прикрыты тишиной. Особенно удивительной была весенняя тишина для тех, кто только что вернулся из боя.
На аэродром машина за машиной опустилась эскадрилья. Воздух наполнился гулом, быстро таявшим в тишине, как снег, падающий в воду.
Санитары не без труда извлекли из кабины долговязое тело Кости Липочкина и положили на носилки. Он уже не дышал.
Морозов и Борисов постояли у носилок. Липочкин был легким, добрым и не очень заметным человеком, но все, кто знал его ближе, любили его. В сумерках еще можно было увидеть его светлые волосы и красивый задумчивый лоб. Лицо его казалось торжественным и сосредоточенным.
Маша Горемыкина расстегнула на нем меховой реглан и китель, открыла белую спокойную грудь, приложила стетоскоп. Прислушалась, сказала:
— Он умер.
И отошла. Она не любила говорить в таких случаях.
Санитары положили Костю Липочкина в машину, увезли, и он для многих перестал существовать.
Но для Морозова и Борисова он продолжал жить.
В летной столовой, расположившейся в одном из залов дворца, разносили ужин.
Борисов и Морозов ели молча.
К ним подошел Калугин, присел. Они распили послеполетные Кости Липочкина.
— Мир потерял замечательного математика, — сказал капитан Морозов, — я в этом убежден.
— А ты помнишь, Саша, как он взял на себя вину Метелкина, когда тот едва не угодил на губу?
Калугин, нахмурившись, слушал.
— Не знал я, что он математик, — немного удивленно сказал Калугин.
— Он решил своим методом, — вам, ребята, не надо говорить, что я в этом деле ни хрена не понимаю, — уравнение Ферми или Ферма — забыл, — сказал Борисов. — Так вот, это уравнение буквально сто лет решали все ученые математики Европы и ни черта не решили. А Костя Липочкин решил!
— У него была светлая голова и светлая душа, — сказал капитан Морозов, — такого стрелка нет во всей Балтийской авиации.
— Не горюй, ребята, — сказал Калугин, — еще война не кончилась, некогда горевать. А вот кончится — тогда всех вспомним, за каждого поднимем рюмочку...
Он, как всегда стремительно, встал из-за стола и, отбросив огромную тень на стены и потолок, где недвижимо плясали древние гречанки в туниках и фавны играли на свирелях, исчез в коридоре.
Ужинали при свечах. В гарнизоне чинили движок. За столами шел громкий разговор. Люба едва успевала приносить граненые послеполетные стаканчики и шоколад в фарфоровых чашках из дворцовых сервизов.
Когда Морозов и Борисов остались одни, Люба принесла шоколад, поставила голубые чашки с золотыми венками на уже залитую скатерть и присела на кончик стула. На ней был крахмальный фартук, не больше мужской ладони, и наколка в пышных волосах. Она смотрела на Морозова нежными глазами. Ей было понятно горе летчика и штурмана. Этот Костик Липочкин был славный парень, слишком уж робкий или равнодушный к девушкам, но очень вежливый. Другие, если опоздаешь принести что-либо за обедом или ужином, так облают, даже неприятно, а он никогда ничего-ничего не говорил, никогда! И ему приносили в последнюю очередь в зал, где ели сержанты, стрелки-радисты.
— Ты где вечером, капитан? — Люба собиралась в клуб, ей хотелось потанцевать с Морозовым.
Шла война, не возвращались летчики, красные столбики с именами погибших, украшенные ветками ели, появились в лесу рядом с аэродромом. Эти кладбища вырастали всюду, где проходили или стояли полки. А где-нибудь рядом со столовой, в сарае или в доме, все равно, вечером танцевали под баян или старинный рояль. На огонек к летчикам, где тишина и покой, приходили девушки.
Морская авиация из боя возвращается в порт, там тишина, и только кровь продолжает кипеть до следующего вылета.
Борисов и Морозов вышли из столовой. Небо догорало, как костер. Пепел затягивал огненные полосы, море лежало огромное, тяжелое и тихое, вдали желто-золотистое, как медь. Они спустились к нему улицей с заколоченными домиками-дачами. Домики были пестрые, воздушные, словно их строили для бабочек. Просыпались деревья. Они еще стояли без листвы, но оживали. По их древесным сосудам уже струилась весенняя молодость.
Капитаны шли к морю. В памяти звучал бой, они еще были в нем, и каждый знал мысли другого. Рядом шагал Костя Липочкин.
Человек привыкает к соседу по квартире, еще больше — по комнате, но товарищ в полете становится частью тех, кто с ним летает. Их руками, их слухом, их глазами. Костя Липочкин был глазами экипажа, его зоркими, защищающими хвост самолета глазами.
Вчера они шли по этой дороге к морю втроем. Сегодня их осталось двое.
— Хочешь курить? — спросил Борисов, нарушая молчание. Это было его право и, может быть, его обязанность старшего.
У них были одинаковые папиросы, те, что каждые две недели выдавали в полку.
Теперь они стояли у широкого песчаного берега. На черте, где сливались вода и небо, угасал закат, легкая черная волна ползла на песок и шипела. От нее тянуло холодом зимы. Становилось все темнее, потому что не было света в окнах: жизнь шла за густыми бумажными шторами, черными и синими.
Борисов думал о том, что давно не получал писем от Веры. Она шла с пехотой, она всегда была в огне, каждый день и, может быть, каждый час она могла уйти, как ушел сегодня Костя Липочкин. И эти мысли настраивали Борисова на особенный, грустный лад.
Он щелкнул металлическим портсигаром со звездой на крышке, протянул его Морозову, взял папиросу и себе.
Морозов высек огонек колесиком зажигалки, и свет, ослепительный в надвигающейся темноте, осветил их лица.
— Кто идет?
Из сумрака под соснами выступил часовой, весь в черном, светилась только вороненая сталь автомата.
— Свои, не узнаешь? — сердито сказал Борисов.
Морской берег охраняли. В песке, подальше от воды, притаились ходы сообщения, окопы. Одна лишь узкая полоска старого деревянного пирса оставалась свободной. К ней приставали корабли. В окопах стояли часовые.
На дачный городишко спускалась вечерняя темнота.
Морозов и Борисов закурили. В этом человеческом обряде, в этой земной привычке, в папиросе с двумя граммами табака откуда-то с южного берега Крыма или Кавказа, было притяжение земли. В папиросе заключался покой, которого недоставало в крови и в сердце.
Два облачка дыма скользнули в вышину, и стало легче.
— Мир потерял замечательного математика, — с ожесточением и упорством Морозов повторил свою мысль, не дававшую ему покоя.
— Слушай, Булка, — сердито сказал Борисов, — довольно! Отправляйся лучше в парикмахерскую.
Они покурили, повернули назад и расстались.
* * *
Возле главной улицы, за высоким красным собором с простреленной колокольней, в двухэтажном флигельке пряталась парикмахерская. Гарнизон взял ее под свое покровительство, и в ней всегда было полно офицеров. По вечерам на широкое зеркальное окно опускали черную штору и, если не работал движок, зажигали свечи.
Перед двумя зеркалами за двумя креслами работали две девушки, черная и рыжая, с прической «конский хвост». В очереди сидели офицеры, их было трое, когда вошел Морозов.
— А, Морозов! — сказал начальник почты, седой полный майор. — Липочкину пришли два письма, вот бы обрадовался.
Морозов не ответил, офицер штаба полка подвинулся на диванчике, чтобы освободить место, и сказал:
— Командир ищет тебе стрелка.
— Другого такого не найти, — мрачно сказал Морозов.
Пламя свечей отражалось в зеркалах.
Девушки разговаривали на своем трудном, непонятном Морозову языке. В углу на керосинке кипел и посвистывал чайник. Матово блестели подносы и стаканчики из нержавеющего металла. Особый запах незнакомых духов распространялся от пульверизаторов, от халатов и кожи девушек, нежно мерцавшей в свете свечей.