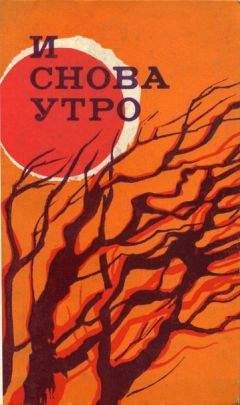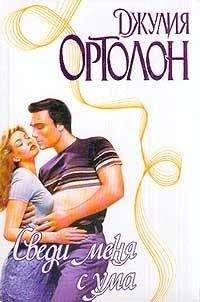И снова утро
Сборник повестей и рассказов
Теодор Константин
Последняя очередь
Вначале его имя не вызвало у меня никаких воспоминаний. Мне показалось, что я слышу его впервые. Только потом, когда я попросил этого человека раздеться, у меня возникло смутное чувство, что имя Панаит Хуштой я когда-то слышал. Но полная уверенность в том, что я его знаю, пришла не сразу. Вначале я вспомнил, что недавно один столичный еженедельник подробно писал о моем клиенте. Молодой журналист с большой теплотой рассказывал о коммунисте Панаите Хуштой, которого двенадцать лет подряд выбирают председателем сельскохозяйственного кооператива «Новые зори», одного из самых первых и самых богатых кооперативов области. Позже, прощупав его живот и обнаружив зарубцевавшуюся рану, я вспомнил, что познакомился со своим пациентом много лет назад, в то время, когда я был хирургом полевого военного госпиталя.
— Значит, — сказал я сам себе, — это не кто иной, как Панаит Хуштой… «Арестант»… Невероятно!
Внешне он не очень сильно изменился, но мне показался совсем другим человеком.
Когда я окончил осмотр, он нетерпеливо, с беспокойством в голосе спросил меня:
— Надеюсь, вы не намерены класть меня в больницу, товарищ доктор?
— Пока нет. У вас гастрит.
— Ну, вы словно камень у меня с души сняли. Сейчас, весной, мне некогда болеть.
— Но знаете, некоторое время вам придется соблюдать диету и обязательно принимать лекарства, которые я вам сейчас пропишу.
— Если это так нужно, я готов соблюдать диету и глотать пилюли.
Выписав рецепт, я будто между прочим проговорил вслух:
— Значит, вы Панаит Хуштой, «арестант»!
Он посмотрел на меня с любопытством и удивлением, явно пытаясь понять, откуда я знаю его. В свою очередь я тоже разглядывал его с любопытством.
Панаит Хуштой был тем же самым и все же другим. Тем же самым в том смысле, что истекшие с нашего первого знакомства восемнадцать лет вовсе не состарили его. Выглядел он лет на сорок с небольшим, хотя, по моим расчетам, ему было под пятьдесят. Но зато глаза его изменились. Прежде его взгляд был мягким, даже застенчивым, теперь же он стал смелым, твердым, пронизывающим. И голос его изменился. Он был уже не ровным и спокойным, а скорее решительным, несколько суровым, одним словом, голосом человека с твердой волей, умеющего сделать так, чтобы его слушали. Видно было, что Панаит умеет завоевывать доверие тех, к кому обращается. Поседевшие на висках волосы были по-прежнему густыми и слегка вьющимися. Только мелкие морщинки вокруг глаз говорили о том, что эти восемнадцать лет были для него годами борьбы и упорного труда.
— Если вы помните, что меня звали «арестантом», значит, вы были врачом в военном госпитале. Не так ли?
— Да.
На лбу у Панаита Хуштой собрались складки. Но ему все-таки никак не удавалось припомнить меня.
— Помните, когда гитлеровцы минировали госпиталь, я тоже помогал вам спасать его.
Панаит Хуштой ударил себя ладонью по лбу.
— Да! Конечно! Теперь вспомнил! Вы — врач, который был одним из первых, кто бросился на гитлеровцев, хотя в пистолете у вас не осталось ни одной пули. Ведь так?
Я утвердительно кивнул головой.
— Вот это встреча, товарищ доктор! Вы не представляете себе, как я рад, что мы встретились!
Он поднялся и с радостным возбуждением протянул мне обе руки. В этот момент он особенно походил на того Панаита Хуштой, которого я знал восемнадцать лет назад.
Потом, глядя на меня с теплотой и симпатией, он сказал без нотки сожаления в голосе:
— Как быстро пролетели годы!
— Быстро. Невероятно быстро. А сколько замечательного произошло за это время! Что касается вас, то вы стали видным человеком. О вас пишут в газетах, журналах. Вот только вчера я читал литературный очерк о вас…
— Знаю… Я тоже читал. Но могу сказать вам точно, что товарищ, написавший его, несколько преувеличил. Поэтому, когда к нам наведывается кто-нибудь из журналистов (а наведываются они довольно часто), я говорю: «Если хотите написать про наш кооператив, пишите, сколько вашей душе угодно. Требуется обо мне написать — пишите. Но только в меру. Потому что, дорогой товарищ, если наше хозяйство первое по области и стало миллионером, то это в первую очередь заслуга работников нашего кооператива, которые поверили слову партии еще двенадцать лет назад».
— Газетчикам вы рассказывали, как спасли госпиталь? — спросил я его через некоторое время.
— Зачем об этом рассказывать? Будто только я один спасал госпиталь. А Рэуцу забыли? А Параскивой, сестру Корнелию, инвалида с искалеченной ногой, да и других? Когда меня принимали в партию, то я рассказал и о себе и о других.
— Но ведь это вы всех вдохновили!
— Ну да, сделал и я кое-что. Но если я тогда и проявил смелость, то только благодаря товарищу Буне.
— Товарищу Буне? Кто это такой?
Панаит Хуштой улыбнулся:
— Вы не знаете его. Мы познакомились с ним в тюрьме в Карансебеше. Он мне на многое открыл глаза, помог разобраться, насколько могла понять моя голова, за что борются коммунисты. Я тогда еще не знал грамоты, и мой ум был как глаза у некоторых, то есть с бельмом.
Помню, когда я узнал о плане гитлеровцев в отношении госпиталя, я сразу подумал о товарище Буне. И я сказал себе: я должен теперь жить по-другому… Да, но я задерживаю вас разговором, а больные ждут.
Действительно, в зале ожидания собралась уже очередь.
— И хотел бы еще увидеться с вами, товарищ Хуштой.
— С большим удовольствием, товарищ доктор.
— Вы часто бываете в городе?
— Чаще, чем мне хотелось бы.
— Как-нибудь, когда снова будете в городе, заходите ко мне домой. Жена будет рада познакомиться с вами.
— Зайду непременно.
Мы пожали друг другу руки, и он ушел. Через несколько минут из окна я увидел, как он садится в газик.
* * *
Неожиданная встреча через столько лет возбудила во мне любопытство и желание ближе познакомиться с ним. Так и случилось, и его обещание встретиться со мной еще раз не осталось простой формой вежливости. Мы потом неоднократно встречались с ним или у меня дома, или у него в кооперативе. Я разговаривал и с другими людьми, которые так же, как и я, знали его восемнадцать лет назад: с доктором Поенару, бывшим начальником полевого военного госпиталя, с Корнелией, старшей медсестрой, с Маноле Крэюце, командиром боевого патриотического отряда, и со многими другими.
После разговора с этими людьми у меня возникла мысль записать о Панаите Хуштой все, что мне удалось узнать. Но поскольку о том, каким он стал, не раз писали и, без сомнения, еще напишут, я ограничусь тем, что расскажу, каким он был восемнадцать лет назад. Расскажу об «арестанте», которого прислали к нам на излечение, чтобы потом расстрелять.
Именно об этом Панаите Хуштой я и хочу написать, и в первую очередь об одном эпизоде из его жизни. Этот эпизод ярко показывает, как честные люди, хотя и не состоявшие в партии, под ее влиянием в тяжелые дни оказались способными на героические подвиги.
* * *
Панаиту Хуштой дважды пришлось иметь дело с «фантазией» военной юстиции Антонеску. Первый раз это случилось летом 1942 года. Полк, к которому он был приписан, сражался на Восточном фронте и нес катастрофические потери. Из тыловой части на фронт непрерывно шли новые порции пушечного мяса — маршевые батальоны, от которых вскоре ничего не оставалось. Однажды и Панаит Хуштой получил мобилизационное предписание. Клочок тонкой зеленой папиросной бумаги, на котором кто-то неровными буквами вывел его имя. С тех пор как началась война против Советской России, зеленый цвет символизировал смерть в еще большей степени, чем черный. Зеленый цвет имели мобилизационные предписания, которые десятками тысяч отправлялись из военных округов в села во всех уголках страны. Зеленый листок приносил почти такое же горе, как извещение о смерти. Достаточно было начальнику жандармского поста или рядовому жандарму извлечь из кармана эту бумагу, как все женщины принимались плакать навзрыд.
— Ой, забирают Ионику! Ой, чтоб на тот свет провалиться тем, кто гонит его на смерть! Ой, Ионика! На кого же ты меня оставляешь, Ионика?.. Ионика!..
Соседки, едва услышав эти крики, тоже начинали голосить:
— Вот и Ионику теперь забирают!.. Всех заберут, чтоб чума скосила тех, кто начал эту войну!
Даже пес во дворе, будто понимая, что в горе, свалившемся на дом его хозяина, повинен человек в жандармской форме с карабином, начинал яростно лаять на него и рваться с цепи.
* * *
Когда начальник жандармского поста Зымбря оказал Панаиту Хуштой честь, соизволив лично вручить повестку о мобилизации, все произошло несколько иначе.
Во-первых, пес Груя не лаял на гостя. Это был старый благодушный пес. Виляя хвостом, он шел навстречу каждому, кто входил во двор, будь то хозяин, сосед, знакомый или даже чужой. Панаит часто ругал его, называл балбесом за то, что пес не мог отличить хороших людей от плохих, друзей от врагов. Но он любил своего пса, которого взял щенком, выходил и выкормил мамалыгой, размоченной в молоке, чего никак не могла понять жена. Как это он, здравый человек, может тратить время на такую шавку, да еще с гноящимися глазами, ворчала она.