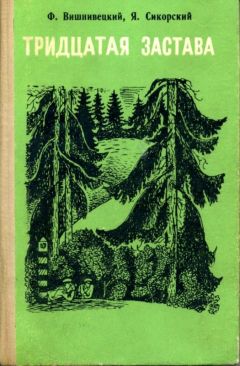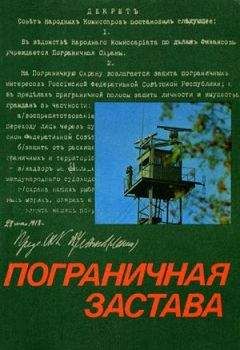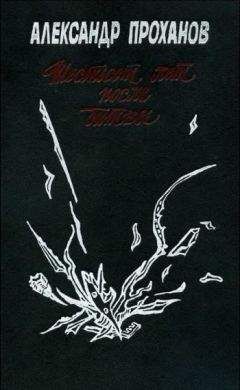Александр Проханов
Кандагарская застава
«Так, хорошо, нормально… Теперь на цель сто тринадцать…» В окулярах бинокля – голубая прозрачная даль, запаянная в стеклянный объем, омытая холодом, светом. Волнистая седая равнина и голые, безлистные деревья – корявые, гнутые, расщепленные ударами взрывов. Гранатовые рощи, сады, изрезанные пролетевшим железом. Виноградники в воронках и рытвинах, тусклые, словно припорошенные пеплом. Кандагарская «зеленка» белесо, безжизненно уходит к горам, угрюмым, коричневым, недвижным в пустых небесах. «И здесь все нормально… Теперь на цель шестьсот шесть…» Разрушенный кишлак на холме, похожий на скелет выброшенного на отмель дохлого животного. Рухнувшие своды, огрызки домов и дувалов, груды горчичной пыли. Артиллерия, самолеты били в этот желтый кишлак, истирая его до земли. Но душманы ночами приносили в развалины минометы, установки реактивных снарядов, обстреливали с холма придорожные заставы, колонны машин на бетонке.
«Так, теперь вдоль арыка… К цели семьсот девятнадцать…» Колышутся красноватые травы, проросшие вдоль арыка, того, по которому подкрадывались душманские стрелки и минеры. Быстрыми пальцами под туманной луной рыхлили обочину, закладывали фугасы и мины. Бинокль процеживает рыжие гривы, стараясь уловить мелькнувшую чалму и накидку. Но заросли вдруг замирают, вмороженные в голубоватое ледяное стекло.
«А теперь вдоль трассы… Самое гиблое место…» Дорога прорезает «зеленку», прямая, ровная. Ударяется в далекую гору, рикошетит, исчезает в тумане среди застав, разоренных кишлаков, зимних голых садов. По обочине – битая техника, непрерывный сцепившийся ворох. Бинокль выхватывает на мгновение, окружает чистейшим сиянием подорванный танк с опавшей пушкой, смятый, окисленный наливник, искореженный, ржавый КамАЗ, в черных проломах фургон, медленно движется вдоль мертвых машин. По этой дороге проходят боевые колонны. Сгоревшие в стычках, подорванные на минах машины – памятники убитым водителям, растерзанным саперам.
«И здесь тишина…»
Ниже дороги – зеленый лоскут возделанного поля, шершавые глиняные кровли, редкие облачка живого дыма над ними. По пыльной улице катит тележка. Низкорослая лошадь звенит бубенцами, трясет над головой красными помпонами. В коляске – белобородый, смуглый старик и мальчик в блестящей шапочке. Мирный, свободный от банды кишлак населен детьми, стариками и женщинами. Молодые мужчины ушли из кишлака к моджахедам, сражались в «зеленке». Ночами тайно возвращались к родным очагам повидаться с матерями и женами. После боев на кладбище у стен кишлака появлялись вырытые могилы. Убитых душманов, спеленутых, как белые коконы, выносили на лежаках, зарывали в каменистую землю. Бинокль задерживается мгновение на грудах пыльных камней, на кривых надмогильных шестах с зелеными погребальными лентами.
«И здесь как будто спокойно…»
Прочертив длинную линию от каменного хребта у горизонта до глиняного, с деревянной калиткой дувала, окуляры в упор наталкиваются на стенку, выложенную из танковых гильз. Мелькают солдатская каска, стянутый ремешком подбородок, сутулая под тяжестью бронежилета спина. Солдат смотрит прямо в линзы. Но стоит опустить окуляры, и солдат отлетит и уменьшится, танковые гильзы превратятся в грязную рябь и застава обретет свой привычный, примелькавшийся вид, сливаясь с отпрянувшей, утратившей очертания далью.
Старший заставы, командир взвода лейтенант Щукин отложил бинокль – даже далекий случайный выстрел не нарушал тишины ясного зимнего дня, а лишь подчеркивал царившее успокоение. Сегодня был редкий день, когда колонны не шли. Придорожные заставы отдыхали, не высылали сопровождение на бетонку. «Бэтээры» и танки стояли с умолкшими двигателями, спрятав в укрытиях пыльные, замызганные борта. Саперы не выходили на трассу, не выносили свои длинные стальные щупы, стертые до блеска о жесткий грунт обочин. Душманы, осведомленные о прохождении колонн, не высылали к бетонке свои боевые группы. Таились вдалеке от пристрелянных опасных позиций. Укрывались в подземных блиндажах и кяризах, замотавшись в теплые шерстяные накидки, подкрепляясь холодной лепешкой и кусочками сушеного мяса, без огня и дымка, опасаясь попасть в перекрестье прицела. И взводный, зная все это, убеждаясь в тишине и спокойствии, моментальным усилием воли словно передернул предохранитель. Отбросил страхи, готовность к броску и к бою, давая место иному чувству. Обратился душой к этой малой, окруженной враждой и опасностью заставе, на которой воевал его взвод. День тишины и покоя был дан ему, командиру, на исполнение хозяйственных дел.
«До вечера будет тихо… А там поглядим, посмотрим…»
Щукин покинул командно-наблюдательный пункт – КНП был оборудован в сумрачной каменной нише – и вышел на солнце.
Застава угнездилась впритык с прежним складом горючего – здесь хранился запас городского, кандагарского топлива. Огромные серебристые баки, уложенные плотно на высокие бетонные стенки, тускло мерцали на солнце. Напоминали громадный орган, вмурованный в черное тело горы. Баки и впрямь начинали гудеть и вибрировать, когда разрывалась над ними мина, посыпая железо осколками. Да и выстрелы танковых пушек порождали в резервуарах долгое, унылое эхо. Склад заставы «Гээсэм» был построен еще американцами. Но с начала войны все цистерны были многократно прострелены. Испарился на жарком солнце запах бензина, и от баков веяло пыльным железом, исходил унылый мутный свет. Застава при переговорах в эфире имела позывной «Альфа». В просторечии же, у водителей военных машин, у солдат батальона, охранявших дорогу, у всех, кто служил в Кандагаре, звалась «Гээсэм». Имела репутацию самой воюющей. Как, впрочем, и соседствовавшие с нею заставы – «Гундиган» и «Элеватор». Зона непрерывной кровавой борьбы с «зеленкой».
Взводный оглядел подпиравшие небо цистерны, притулившийся у каменистого пологого въезда «бэтээр», сторожевую обглоданную вышку, на которой стоял часовой. Подумал: когда-то здесь, словно в иной жизни, теснились цветастые, разукрашенные грузовики, сновали, толпились смуглые бородатые люди – водители и заправщики, торговцы и менялы, жители соседних кишлаков и кандагарских окраин. Эта жизнь неизбежно снова вернется сюда, на сухое, посыпанное осколками взгорье. Но теперь на нем занимают оборону солдаты. Здесь их жилье, их гнездовье, постоянно разрушаемое, требующее ухода, радения. И он, командир, хозяин, устроитель заставы, направлялся с обходом по своему хозяйству.
У входа в казарму, в каменное, оставшееся от прежних времен жилище, солдаты строили из зеленых зарядных ящиков курилку. Не хватало на заставе такого местечка на вольном воздухе, где можно было бы посидеть, отдохнуть, не опасаясь душманского снайпера, разорвавшейся в воздухе гранаты. Солдаты несли пустой, с оторванной крышкой ящик к откосу. Кайлом выбивали из горы щебень и камни. Наполняли ящик и медленно, тяжело тащили его обратно. Ставили на другие набитые гранитом короба. Они же виднелись на вышке и вдоль внешней границы заставы, образуя плавный, повторяющий склон бруствер. Ящики из-под танковых и артиллерийских снарядов ценились здесь высоко, служили незаменимым стройматериалом.
Стена курилки поднималась, росла. Работами заправлял ефрейтор Благих, круглоголовый, стриженый, с маленьким вздернутым носиком. Осматривал ящики спокойно, внимательно. Немногословно давал указания солдатам. Отбирал из груды пустых ящиков те, что считал пригодными для строительства. Непригодные откладывал в сторону.
– Этот в дело… Этот в дрова… А этот на мебель…
Его слушали и тут же раскладывали материал в разные стороны. Второй Благих, санинструктор, рядовой, повторявший первого чертами лица, выражением глаз и губ, жестами. Взводный различал близнецов только по очередности их следовавших друг за другом движений. Старший на несколько мгновений всегда опережал брата. Тот вторил ему послушно и радостно.
– Гвозди выбей и выпрями! – командовал ефрейтор.
Сам ловко выдрал гвоздодером впившийся в доску гвоздь и тут же на камне мелкими, аккуратным ударами распрямил его. И брат так же ловко тем же гвоздодером извлек второй гвоздь. Тем же числом аккуратных ударов распрямил его, высунув розовый кончик языка, совсем как ефрейтор.
Щукин удивлялся их сходству, как диву природы. Природа, сотворив одного, в подкрепление, в подтверждение себе создала его точную копию. Оба они, неразлучные, были наполнены единым дыханием жизни, одним на двоих. Были вечно вместе – в караулах, в нарядах; спали на соседних койках; писали домой одно и то же письмо; уединившись, о чем-то негромко шептались. Однажды лейтенант увидел их, молча сидящих на солнцепеке. Взялись за руки, закрыли глаза, притихли, давая единой наполнявшей их жизни свободно переливаться от одного к другому.
Взводный изумлялся, робел, наблюдая это таинственное единство.