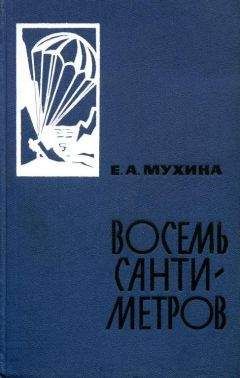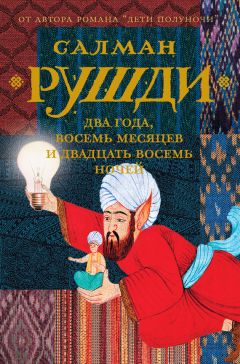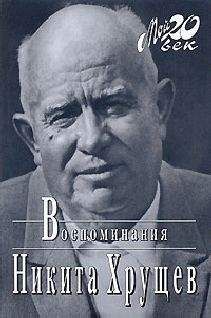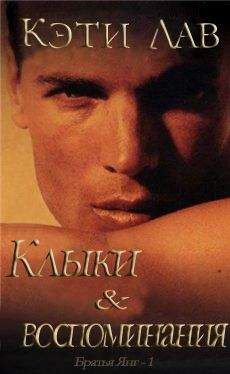Восемь сантиметров: Воспоминания радистки-разведчицы
В конце сентября 1941 года, когда не исполнилось мне и семнадцати лет, я неожиданно стала военным человеком.
Расскажу, как это получилось.
Еще с утра серо-черные тучи нависли над Ачадарскими горами. К вечеру, насыщая воздух влагой, они спустились до вершин ближних холмов.
Шумит речка Гуммиста, шумит, а все равно кругом тихо и глухо: перед дождем всегда так. Еще не совсем смерклось, а мы с сестрой Верой улеглись и приготовились слушать, как по нашей ветхой, проржавевшей крыше будет барабанить дождь. Я люблю под шум дождя думать, а подумать есть о чем.
Уже несколько месяцев полыхает война. Фашисты заняли Киев, добираются до Харькова и Ростова. Не знаю, как это выразить. Вроде бы я еще не взрослый человек, и все же при мысли о той страшной силе, что навалилась на мою Родину, во мне закипает ненависть к врагу. А себя чувствую вроде бы виноватой: идет народная война, а я живу по-прежнему — ем, пью, гуляю. Разве так можно?
Под шум дождя пробую поделиться мыслями с Верой. Но она еще ребенок, не способна бороться со сном. Очень устает: ей тяжело приходится. Старшая сестра Мотя ушла в армию, меня почти не бывает дома. Грядки на огороде полоть — ей, дом убирать, посуду мыть, стоять в очередях за продуктами, что дают по карточкам, — все ей. И вот под мои речи она сворачивается клубком и засыпает.
Слышу, отец говорит матери:
— Эй, погоди спать, бабка! Чуешь, какой дождина припустил. Как бы не затопило огород…
Если Гуммиста вздувается от ливня, за несколько минут превращается в грозный поток. Не спастись от нее — несется лавиной. Прихватывает мостки, склады дров…
Нам, девочкам, не нравилось, что отец называет маму бабкой. Так ведь она и правда стара, слаба — все вздыхает и крестится: маме шестьдесят седьмой год. Отцу ненамного меньше, а он шустрый, быстрый — весь день бегает, хлопочет. Но конечно, и его коснулась старость, а сверх того увечье, болезни. Получает как инвалид труда небольшую пенсию и при этом служит сторожем на шоссейном мосту. У нашего папки поломаны ребра: сорвался в реку, когда снимал опалубку с отстроенного моста. Папка плохо дышит, бывают у него приступы боли, однако берется за всякую работу… Поженились наши родители немолодыми — маме было сорок семь, отцу — сорок пять. Через год после женитьбы родилась Мотя, за ней я, а Вера появилась на свет, когда маме исполнилось пятьдесят три года. Отец, после того как покалечился, долго лежал. Пришлось отдать нас в школу-интернат. Мы с Мотей успели окончить семь классов, Вера всего лишь четыре. Началась война…
Мы жили не в самом Сухуми, а за десять километров от города, в селе Ачадара. Недели не проходило, чтоб я не заглянула в Сухумский горвоенкомат. Военком отмахивался от меня как от назойливой мухи. Но я ему не давала покоя. До военкомата десять километров. Перекинув через плечо туфли, шлепаю босыми ногами по раскисшей дороге. Иду, почти бегу, а сама все гадаю: откажут сегодня или нет?
В утро после ливня во дворе военкомата было почему-то народу меньше, чем обычно. Этот домик с круглым двором я запомню на всю жизнь. Каменное одноэтажное здание, в середине двора большая развесистая пальма. Удивительная штука: неужели пальма способна русскому человеку напомнить Родину? Сколько я читала стихов! Родина всегда связана с березкой, с елью, с колосящимся полем, с тихой речкой. А для меня эта толстенная пальма как бы определяла все мои чувства. Помнила, конечно, и свою деревню под Воронежем. Но там наша семья очень уж мучилась. Отец страдал от измывательства кулаков и в конце концов не выдержал — пошел бродить по России. Всей семьей бродили — наша бедная мама и мы, три сестры: Мотя, я и маленькая Верка… В душе теплилось воспоминание о ранних годах жизни, о мягкой плоской земле, о тихих речках, о нашей доброй глазастой корове. Те далекие картины снежной зимы и ласковой, мягкой летней травки для меня очень много значили. Но вот эта пальма возле военкомата, жесткая и шелестящая, как стружки, тоже виделась признаком Родины, тоже вставала в моих снах…
Это было потом, когда одинокой пряталась в тылу врага в каменных щелях, в сугробах, в разрушенных артиллерийским огнем домах…
Ладно, не буду забегать вперед.
Заглядываю в окно… Мне, для того чтобы заглянуть, нужно, зацепившись за железный карниз, пробраться по кирпичному выступу. Теперь понимаю, как была смешна. Постовой кричит:
— Эй, ты! А ну слазь! Нашла где забавляться.
Но я уже увидела — военком у себя, и больше мне ничего не нужно. Прыгаю на землю и бегом в дверь.
Военком привык к моим посещениям. Обычно встречает сурово, сегодня улыбается:
— Здравствуй, здравствуй, Петушок!
А я стою перед ним по-военному «смирно». Нарочно не улыбаюсь, хотя мне его лицо видится очень добрым и обнадеживающим. Екнуло сердце. Он еще ни разу не говорил со мной так мягко.
— Ну что, опять пришла проситься? Куда бы тебя, Мельникова, направить?
— Как куда? На фронт конечно! — отвечаю я. — Не на рыбную же ловлю пришла проситься. Мы и без того, когда Гуммиста вернулась в русло, наловили полно рыбы в лужах возле дома.
Я шучу, военком шутит, боюсь, боюсь, опять мне откажут. И слышу:
— Так вот, Мельникова, на фронт пока не выйдет. А есть… — Он смотрит мне прямо в глаза, как бы сомневаясь и проверяя. — Есть, Мельникова, одна такая школа… Туда, пожалуй, можно тебя направить. Пока подучишься, глядишь, и подрастешь.
Он говорит, смотрит на меня и не может удержать улыбки. Будто я и не человек, а бобик какой-то. Я вскипела:
— Вы не должны смеяться, товарищ военком! Думаете, маленькая, а я все обдумала, понимаю, на что иду. Ежедневно читаю газеты и насквозь прониклась тем, что творится на передовой. Я хочу помочь фронту.
В кабинете за другим столом сидел молоденький лейтенант и что-то писал. Услыхав, как я задираюсь, он поднял на меня глаза и неодобрительно покачал головой. А военком как ни в чем не бывало говорит:
— Ну, хватит! Садись, Мельникова. Ты вот горячишься, а не знаешь, куда мы тебя собираемся направить. Слушай внимательно, разговор особый. Пока будешь учиться, станешь носить, как и всякий красноармеец, военную форму, ходить строем, спать в казарме… А потом… пойдешь в тыл противника… Это очень, очень опасно.
Мне казалось, военком слишком напирает на опасность. Неужели я не знаю, что такое разведчик, неужели не читала? Нужно переползти незаметно линию фронта, взять «языка», отметить на карте ту или иную вражескую точку… Читала я и о таких разведчиках, которые проникают в стан врага, выдавая себя за немецкого солдата или офицера. Это не для меня — немецкий язык я не учила, за фашистского солдата или офицера выдать себя не смогу. О чем он толкует, зачем пугает? Дал бы направление — и дело с концом. Но военком продолжал:
— Мы тебя обучим радиоделу. Сейчас Красная Армия ищет самоотверженных юношей и девушек, подобных тебе. Выбросят на парашюте с радиостанцией, в одежде обыкновенной крестьянской девчонки. И останешься одна-одинешенька. Поговорить не с кем, посоветоваться ни с одним человеком невозможно… Вот что ждет тебя, товарищ Мельникова… Согласна?
Я молча кивнула.
— Не хочу агитировать. Для такого решения душевная зрелость и внутренняя готовность должны быть выше слов…
Я решилась его прервать:
— Товарищ полковник, я уже прыгала с парашютом.
— Знаю.
— Товарищ полковник, я сильная, ловкая — умею быстро бегать, умею плавать…
— Знаю.
— Я уже не маленькая… И всей душой… Я же комсомолка.
— И все-таки, Мельникова, подумай об опасности…
Он говорил тихим голосом, вроде бы нежно, как с родной, любимой дочерью. Мне подумалось: наверное, дочку потерял, а теперь расчувствовался.
Вскочив со стула и вытянув руки по швам, говорю:
— Вы меня только пошлите, пусть учат, а что и как, я пока гадать не хочу. Хоть двадцать раз прыгну в тыл к фашистам, если это нужно для Родины… С парашютом прыгать не боюсь. Уже пять раз прыгала с вышки…
— Ну, коли так, пошлем ее, — проговорил лейтенант.
И полковник кивнул головой:
— Пошлем, пошлем. Повезло тебе, девушка!
Первый раз в жизни меня назвали девушкой. Я даже приподнялась на цыпочки.
Мне велели прийти завтра утром с комсомольским билетом и, если есть, захватить паспорт.
Выбегаю на улицу, забываю даже поблагодарить. Бегу. А самой каждому встречному хочется крикнуть: «Меня взяли в армию, взяли в армию!»
* * *
До свидания, Сухуми! А может, прощай? Может, никогда не увижу эти засаженные пальмами и дорожками цветов улицы-сады. Прощай, наш красавец ботанический сад! Я говорю «наш» потому, что мы с сестрой Мотей любили эти места. Прощай, мое Черное море! Увижусь ли когда-нибудь с тобой?