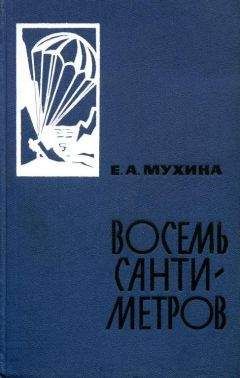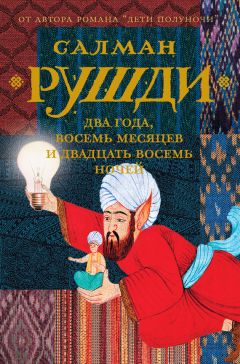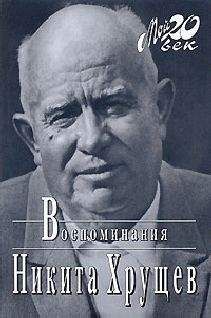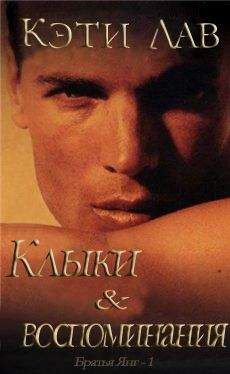— Слева будешь выходить.
— Ясно!
Он молодцевато вскочил на свое место, закрепил на мне ремни и сам закрепился.
* * *
До Туапсе мы летели над морем, потом свернули к горам. И только перемахнули какую-то гряду холмов, начался лес, и мы при лунном свете пошли бреющим над самыми деревьями. Некоторые деревья высоко торчали — того и гляди зацепим крылом. Однако же мой летчик знал что делал. Где-то тут проходил невидимый тихий фронт. Кругами летали наши «илы». Вдруг появились фашистские «рамы». Между ними возникла перестрелка трассирующими пулями; нас пока это не касалось. Вражеские зенитки тоже не заметили. Дальше мы оказались над степью.
Свежая осенняя ночь. Сквозит в тучах луна. Является, пропадает.
Я вынула было свои часы со светящимся циферблатом, но не могла сосредоточиться. Который час — не поняла. Посмотрела на бортовые часы и опять не поняла. А сердце — тук, тук, тук — тяжело стучало. Глянула на альтиметр — он яснее, что ли, освещался, — увидела: тысяча двести метров. Высоко забрались. Значит, от холода дрожу. От холода и от высоты, а вовсе не со страху.
Вы бы знали, как я боялась обнаруживать страх. Не то чтобы перед кем-нибудь — более всего перед собой. Когда летишь во вражеский тыл, обнаружить перед собой боязнь не то чтобы стыдно, даже гибельно. Я благодарила сильный ветер: он вышибал слезу, значит, не плакала. Самолет то и дело проваливался в воздушные ямы. От неожиданности я хватала воздух открытым ртом, как бы всхлипывала…
…Забыла рассказать. В казарме откуда-то взялась аккуратненькая куколка. Настоящая, фарфоровая, с закрывающимися глазками. Небольшая — чуть подлиннее ладошки. Я вам честно скажу — обомлела. У меня за все мое детство, кроме тряпичных, никаких других кукол не бывало. Я ее с минуту, наверное, разглядывала, кажется, даже прижала к груди, но мне своих товарищей стало до ужаса стыдно. Куклу тут же отдала уборщице. Она обрадовалась. Жила тут неподалеку с детьми. Обратно мне протянула:
— Может, с собой возьмешь?
Я отказалась. Но вполне возможно, что зря.
Я девчонкой была, хоть и стукнуло семнадцать. Кукла мне больше подходила, чем пистолет или финка, не говоря о гранате.
Откуда могла кукла попасть в казарму? Да случайно. Великая вещь — случай!
Все разведчики верят и обязаны верить в счастье и в счастливый случай… который надо организовать. «Обязательно даже организовать!» Это наш начальник говорил. Повторяю его любимое выражение…
Однако ж я все-таки взахлеб плакала в том самом самолетике, что летел над кубанскими степями, захваченными немецко-фашистской армией.
Где-то там на земле враг… Кое-где сверкают огоньки. Может, окна, а может, костры. Летчик повернулся и показал рукой вниз. Смотрю — горит дом. Большое каменное здание. Приподнявшись сколько позволяли ремни, я прокричала ему в ухо:
— Партизаны?!
Летчик кивнул и, опять обернувшись, радостно засмеялся.
Значит, было у нас с ним дружеское общение. Мы хоть не знакомились, именами и адресами не обменивались, но летели не чужими.
Когда он мне показал подожженный партизанами склад или казарму — что там было, не знаю, — мои слезы сразу высохли. Дышать тоже стала ровно. Потому что получился обоюдный контакт: мы фронтовики — он и я. Друг друга не знаем, но мы вместе. Вполне возможно, погибнем вместе… Тут же я вспомнила, что он везучий. Он и я на этом «кукурузнике» одно целое, значит, его везучесть обязательно и моя. Но не в этом, не в этом главное. А в том, что увидела дело рук наших: пожар у немцев… Как так наших? Мы-то ведь с ним ничего еще не подожгли. Ну и что! Руки-то все равно русские, советские. И армия, и партизаны, и мы, разведчики, — все один к одному…
Я стала видеть хорошо. На моих часах циферблат ярко засветился: 0 часов 15 минут. Летим, значит, четвертый час. Почему так долго? Потянулась к летчику — он приглушил мотор.
Кричу ему:
— Далеко еще?
Он поворачивается ко мне:
— Летим вкруговую, над берегом Азовщины.
Хотела спросить, за каким чертом, но не решилась. Может, летчик не только мною занимался. Хоть и ночью, а все-таки вел разведку восточного азовского берега. К тому же, рассудила я, забрасывать меня безопаснее со стороны запада.
* * *
Помните условие? Когда летчик стукнет себя по плечу — готовься, отстегивай ремни. Когда махнет рукой — перебирайся на крыло. Он приглушит мотор, даст газ, и ты, хочешь не хочешь, сорвешься с крыла и канешь вниз.
Вот он ударил себя по плечу, поднял руку — я отстегнулась и вылезла на крыло. Показал на землю — я соскользнула; секунды через три раскрылся мой парашют.
Тут летчик устроил мне фокус — я испугалась ужасно: он резко снизился и прошел на бреющем прямо надо мной. После чего дал полный газ и пропал в тучах.
Зачем так сделал? Он умно поступил и дерзко: с высоты метров в десять сбросил грузовой мешок без парашюта. Это было для меня великое дело — собирать буду не два парашюта, а только один.
Приземлилась удачно. Ветра не было, моросил дождик. Однако ж не слишком темно: за тучами луна. Неподалеку мирно перебрехивались собаки. Значит, порядок. Парашют не заметили. Я так близко от людей и их домов опустилась, что даже запах учуяла живой — дыма кизячного, земли вспаханной. И звуки услышала: кто-то бренчал на рояле. Это в первом-то часу ночи. Неужели клуб есть и в клубе играют?
Не посчитайте, что окончательная дурочка, — долго не вслушивалась. Руки-ноги действовали как отлаженный механизм: тяну к себе парашют, гашу, комкаю. Тут окончательно уяснила — топчусь на пробороненной пашне. Зло взяло: «У, гады, под озимую пашут. Пашут и боронуют. Значит, будут и сеять…» На бороненной земле сильно отпечатываются следы. Это худо. Посветила фонариком не больше секунды. В мозгу отпечаталось, как на фото: рядом лесополоса — густая, колючая. Скорее всего, акация. За этот миг я высмотрела и грузовой мешок: лежит в мягкой осенней листве. Листву ветром нагнало — так и бывает у лесополос. Быстро срезаю с себя стропы, сбрасываю рюкзак и рацию, взрезаю финкой грузмешок и в разрез заталкиваю комбинезон, шлем, парашют. Все заваливаю листвой и присыпаю, как положено по инструкции, нюхательным табаком. Могу твердо сказать — в тот момент боязни не осталось даже и чуточки. Не тряслась, зубы не стучали. Снова вскидываю на себя рюкзак и рацию на лямке. Определяюсь на местности. План Кущевки я еще в штабе внимательно изучила, и он во мне жил будто нарисованный: у разведчика должна быть способность четко запоминать план и мысленно переводить его из чертежа в настоящие дома, улицы, огороды, сады… Намечаю маршрут. Надо идти вдоль лесополосы, нигде не тронув ногой бороненную землю. Не может же она тянуться вечность. И правда, вскоре пахота кончилась. Справа, неподалеку, яблоневый сад. Как я поняла? Стволы снизу побеленные, вроде бы в чулках. Иду через сад и опять злюсь, что за ним при оккупантах ухаживают. Листья под ногами шуршат, дома близко. Там, должно, спят. А может, кто и не спит; хорошо, что хоть окна сюда не выходят… Вдруг замечаю в межрядье деревьев какие-то светлые фигуры. Будто притаились, чтобы схватить. Дождь припустил сильнее… фигуры стоят не шелохнутся. Я замерла, и уже ноги подгибаются. Командую себе: «Ложись, дура, ползи!» Вдруг осенило: это ульи на раскоряченных ножках. Их там стояло пять или шесть — собрались толпой.
Дальше нужно поворачивать. За крайней хатой начинается улица. Оттуда-то и доносится бренчание рояля. Теперь слышны и сиплые голоса. Не то поют, не то спьяну орут. Гитлеровцы. Гуляют, паразиты. И сразу в сердце толчок: «Враг рядом, готовься к бою!» Рука потянулась за гранатой, но разум победил. «Ты что, — говорю себе, — с ума сошла?» Выглянула за угол — метрах в двухстах открытая дверь сарая, а может, казармы. Окна замаскированы, а дверь кто-то спьяну отворил, да так и оставил… Я знаю — жители гулять ночью не будут. Повсеместно действует запрещение выходить из дому после восьми вечера. Да и какое может быть у советских людей гулянье!.. А мне ведь идти на улицу, да еще с заплечным мешком и рацией… Время торопит. Вполне возможно, меня дед ищет… Решаюсь. Вернулась в сад, затолкала под улей всю свою поклажу, замаскировала кое-как листвой и двинулась, прижимаясь к плетням… Все ж таки девочка-подросток, обыкновенная станичница, а не парашютист с рюкзаком. Увидят — авось сразу-то и не застрелят… Обогнула угол. Но с этой стороны, с уличной, не плетни — штакетник. Сюда окна выходят. Мне нужна третья хата. А я со счета сбилась. Как могла сбиться? Очень даже просто — меж домами такой же почти вышины сараи… Я уже не иду — согнулась в три погибели: штакетник невысокий, если кто из темного помещения посмотрит, заметит мою голову. Хорошо свой кто-нибудь. А может ведь и чужой. Уже не иду — ползу, гранаты лимонки бьют в грудь. Я взяла в руку пистолетик, спустила предохранитель. Зачем? Ну а как быть, когда потеряла ориентир и представить не могу, с кем сведет судьба. Где она, третья хата? Попробовала по трубам определить — у сараев-то нет труб. Но темно, чертова темень. И дождь, дождь… Собаки и те попрятались, не гавкают. Добро хоть заборы светлые… Скрипит калитка, кто-то хватает меня за шиворот, подымает, как щенка, затаскивает во двор. Мычу, пытаюсь вырваться, но пистолетик в ход не пускаю. Рука держит крепко. Слышу шепот: