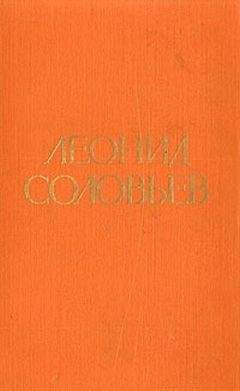— Эх, «Федя», прощай! — сказал машинист с невеселой удалью в голосе. — От моей руки погибаешь! Ну, послужи в остатний разок!..
Он резко двинул регулятор на полный ход. Паровоз вздрогнул и забуксовал, проворачивая колеса под собой на месте. Машинист спрыгнул. Паровоз двинулся — и пошел, пошел, пошел, сотрясая землю, злобно сопя и урча, словно в его железном брюхе в яростном, но тщетном усилии освободиться клокотал не пар, а перегретый гнев.
Машинист, весь дрожа, высоким альтом закричал вслед паровозу:
— Ай, «Федя»! Давай, «Федя»! Жми, «Федя»! Давай, давай!..
Ночная мгла быстро поглотила паровоз, уже ничего нельзя было разобрать вдали на линии, только ныли рельсы, тихо, стонали, сливая два встречных гула: один — ровный, размеренный, второй — стремительно нарастающий, переходящий в железный рев. Время остановилось, ветер упал, казалось, вся земля остановилась в полете и ждет замирая. Тревожным звуком ныли рельсы — это навстречу врагам неудержимо, неотвратимо летела из темноты горячая лавина стали. По насыпи, рядом с ней, прыгая по камням, перемахивая через мостики, мчался зловещий, словно кровью окрашенный, сгусток багрового блеска из поддувала, брызгами летел щебень, а сзади, в лунной дымке, вихрились и завивались пыльные смерчи.
…Удар был глухой, раскатистый; поднялось мутное зарево, дрожа постояло в небе и погасло.
Все кончилось. Немецкие бронированные площадки перестали существовать вместе со всем экипажем. Судя по силе удара, полетели под насыпь и паровоз и все вагоны.
Жуков, бледный от волнения, предложил:
— Я сбегаю погляжу. Я мигом обернусь.
— Некогда, — ответил Никулин. — Сейчас выступаем.
Подошел Фомичев.
— С мотористом что будем делать?
— Отпустить.
— Зачем? — удивился Фомичев.
— А затем, что обещал. Раз обещал, надо выполнить. Веди его ко мне.
На перрон вывели моториста. Он затрясся, заплакал, повалился на колени перед Никулиным, схватил его руку, потянулся губами к ней.
— Встань! — брезгливо сказал Никулин, пряча руку в карман. — Вот что, иди к своим… — Никулин слегка задохнулся. — Иди к своим, — повторил он, возвысив голос, — и скажи им так: русский, мол, матрос Иван Никулин велел вам передать, чтобы вы с нашей земли уходили подобру-поздорову, пока еще время есть. А то каяться вам придется: сами захотите уйти, да поздно будет — ни одного живым не выпустим!.. Крылов, переведи ему, да как следует, чтобы он понял. Повторить заставь.
Крылов перевел. Немец понял, закивал головой, залопотал…
— Иди! — Никулин указал рукой в степь. — Иди, фриц!
Немец, сгорбившись, втянув голову в плечи, оседая на трясущихся ногах, медленно побрел через пути.
— Боится, гадюка! — сказал Фомичев. — Пули в спину ждет!
Никулин молчал, провожая немца тяжелым, недобрым взглядом.
— Двинулись! — наконец сказал он. — Людей построить. Дрезину поджечь.
Дрезина вспыхнула, ярко озарив перрон. Отряд построился.
— Направо! — скомандовал Никулин. — За мной — шагом марш!
…Дрезина догорала. Только светился еще на рельсах раскаленный металл.
Разъезд опустел. В одну сторону от него, в лунную холодную пустыню, уходил немец, постаревший на десять лет. Он поминутно присаживался на бугорки, прижимая руку к сердцу, плакал и шепотом жаловался. Кому? Земле, ветру, звездам? Но холодно и враждебно молчала в ответ земля, и ветер, не слушая, пролетал мимо.
В другую сторону уходили моряки, и с ними — Маруся Крюкова, машинист, кочегар Алеха и Тихон Спиридонович Вальков, покинувший свой захолустный разъезд ради трудов и подвигов бранных.
Никулин ставил перед собой одну цель, одну задачу — пробиться к своим. Этой цели он полностью подчинил и самого себя и каждого из бойцов. Он твердо решил не сворачивать никуда с проложенного курса, понимая, что при малочисленности отряда нельзя отвлекаться на второстепенные операции, разбрасываться по мелочам, рисковать людьми без крайней необходимости. Если уж попутно подвернутся какие-нибудь фашисты, тогда можно, конечно, ударить, да и то при условии благоприятной обстановки, позволяющей рассчитывать на полный успех без потерь в личном составе. Людей немного, потеряешь всего пять-шесть человек, а сила отряда понизится вдвое. Между тем впереди — прорыв к своим и наверняка с боем. Силы нужно беречь именно для этого решительного боя.
Так он и сказал однажды своим бойцам на привале:
— Мы сильны морской нашей спайкой, взаимной выручкой. Мы сильны тем, что все вместе бьем в одну точку, одним кулаком. Нас в отряде двадцать шесть человек, и каждый стоит двух десятков фрицев, потому что со всех сторон товарищи подпирают. Каждого из нас в бою двадцать пять товарищей поддерживают. Чуете арифметику или нет?
— Чуем! — ответили бойцы.
— Точно!
— Поэтому приказываю, — продолжал Никулин, — каждому бойцу себя, как только можно, беречь! Каждый должен помнить, что, выбывая из строя, не только он сам погибает, но и товарищей подводит. Еще надо помнить, что госпиталя у нас нет, раненых лечить негде. Не бросим, конечно, если уж ранят, но оберегаться каждый из нас должен в обязательном порядке. А то вон — Крылов. Орел! В рост ходит под немецкими пулями. Ничего, мол, я не боюсь! За такие фокусы драить буду! Приказываю — никаких самостоятельных действий против немцев без моего разрешения не предпринимать. Крылов, Жуков, это вас касается, а то больно уж вы горячие оба. Кто приказ нарушит, буду наказывать. А наказание простое: прогоню из отряда. Гуляй в одиночку, пока немцам в лапы не угодишь. Все поняли? А теперь — пошли! Поднима-айсь!
Никулин вел свой отряд глухими проселками, а то и прямо целинной степью, тщательно избегая больших дорог. Если попадалась на пути такая дорога, то ее пересекали ночью и шли ходко, чтобы встретить утро где-нибудь подальше — в перелеске или в глубокой балке. Никулин вообще предпочитал ночные марши, а на отдых останавливался днем — и теплее, и безопаснее, и костер можно развести. Приходилось останавливаться и в селах и в деревнях. Ближе к большим дорогам часто попадались села разоренные; гудел ветер, залетал в разбитые окна опустевших хат, хлопал незапертыми дверьми, гнал и крутил по улицам черный пепел, обдавая моряков едким, терпким запахом остывшей гари.
Навстречу отряду выбегали уцелевшие жители — старики, дети, женщины; в глазах, сквозь слезы, светилась трепетная надежда.
— Милые! Родные! Да неужто наши вернулись?
Тяжело было говорить этим людям правду — что нет еще, не вернулись наши.
Покидая такое село, моряки уносили в сердцах еще одну жгучую каплю ненависти и гнева. На что уж мягкое, жалостливое женское сердце было у Маруси Крюковой, но и Маруся ожесточилась — не отвернулась, когда на маленьком хуторе моряки поставили к стенке троих фашистских мародеров, захваченных с поличным в одной из хат у взломанного сундука.
В глубину степи немцы пока не успели проникнуть, там уцелели кое-где и станицы, и деревни, и хутора. Такая дневка считалась праздником. Хорошо было подходить ранним холодным утром к спрятавшемуся в глинистой балке хутору: отражая зарю, горят приветливым тёплым золотом окна хат, над очеретовыми крышами солидно и домовито восходит из глиняных труб дымок, сиреневым столбом поднимается в чистую вышину и там расходится, прозрачно окрашиваясь алым светом. На речке, подернутой молочным паром, крячут утки, важно гогочут гуси, а под облетевшими осокорями задумчиво бродит пегий теленок, с хвостом, украшенным репьями. И на разные голоса гавкают кудлатые псы.
Обнесенные плетнями, крепко стоят белые приземистые хаты — навеки вросли корнями в родную, дедовскую и прадедовскую землю, а в хатах чисто, уютно, тепло, пахнет сухим укропом, мятой, свежим хлебом, у пылающих печей хлопочут, высоко подоткнув юбки, дородные казачки, раздавая щедрые, звучные подзатыльники ребятишкам за излишнее любопытство. Здесь, в таком тепле и уюте, за самоваром, к месту были бы мирные сельские разговоры об урожае, о трудоднях, о покупке овец или коровы, о мошенничестве заведующего кооперативом, о предстоящих свадьбах… Но морякам не пришлось услышать таких разговоров — другое было у всех на уме. Станицы, деревеньки, хутора охвачены были тревогой, смятением. Моряков засыпали вопросами: близко ли окаянные фашисты, да когда они пожалуют, и что можно от них ожидать честному трудящемуся колхознику? И морякам с болью в сердце приходилось отвечать, что близко фашисты, что пожаловать могут в любой день, что хорошего от них ожидать ничего нельзя. И в хатах становилось как будто холоднее, темнее; насупив седые брови, молча слушали старые казаки, а казачки — иные плакали, иные, скорбно и тяжко вздыхая, крестились на темные лики озаренных лампадой икон. Но хоть и вздыхали, и плакали, и скорбели, думая о страшном дне, но честь свою казачью, кубанскую берегли: там будь что будет, а сегодня дорогих гостей надо принять как полагается.