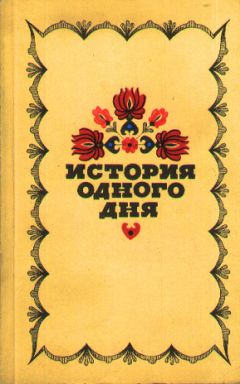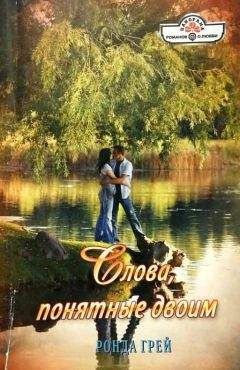— Эх, святые отцы, до смерти пока далеко. Поживем еще немножко на этом свете! Выпьем да повеселимся!
И гости веселились часов этак до десяти вечера. А затем навеселе, со смехом и гомоном, разошлись пешком, или — смотря кто где жил — разъехались, кто на телегах, кто в санях, по домам.
Кальвинистский поп уезжал последним. Уже усаживаясь в сани, он крикнул хозяину:
— Не забыл обещания?
— Нет, не забыл!
Патер проводил взглядом своего последнего гостя, выезжавшего за ворота, вернулся с крыльца в дом, сотворил вечернюю молитву, да и отошел ко сну.
Не успел он и часа проспать, слышит: кто-то стучит в окно. У святого отца руки-ноги захолодели. Между тем его и прежде нередко будили в ночь-полночь. Над дверью у него висели на гвозде ключи от кладбищенской калитки. В этот миг гвоздь сам по себе выпал вдруг из стены, а ключи, таинственно зазвенев, покатились прямо к окну.
— Кто там? — вскочил патер с кровати и сунул ноги в ночные туфли.
— Это я, Мишка! — послышался за окном знакомый голос.
Святой отец подошел к окну, отодвинул занавеску. За окном стоял кальвинистский поп.
— Вернулся? Что случилось-то?
— Умер я, — отвечал гость глухим, плачущим голосом, — и вот пришел тебе сказать, что на том свете все иначе: не так, как ты говорил, и не так, как я думал. Аминь!
Патер уже и рот раскрыл, чтобы сказать: «Не болтай чепуху, Мишка!» — но слова эти замерли у него на устах: стоявший под окном человек исчез вдруг, как дух бесплотный. Ни снег не захрустел у него под ногами, ни следов на снегу не было видно. Между тем на небе сияла полная луна. Петухи пропели полночь. Патер, не попадая зубом на зуб, залез под пуховое одеяло, а к утру у него началась лихорадка. Еще хуже ему стало, когда поутру экономка пришла с известием:
— Святой отец, беда стряслась…
— Что такое?
— Кальвинистский-то священник, как вчера вечером от вас домой поехали, в горах вместе с санями в пропасть сорвались. И он и кучер — оба насмерть убились, ой, как страшно померли…
— Так вот я думаю, ваше княжеское величество, — закончил свой рассказ студент, — что ежели правду сказал вестник с того света, так ни один из спорящих господ не прав.
— Твоя правда, — воскликнул Апафи. — История очень хороша и поучительна. Я доволен!
Понравился рассказ и прочим важным господам.
— Умный малый, — заметил со смехом Криштоф Боер. — Победил нас. Я сдаюсь.
— Одним словом, не видать вам, господа, сабли.
— Да, в самом деле! Кто же получит княжеский подарок?
— Бог мой! Да кто же еще, как не юноша? — воскликнул князь.
— Как видно, не столько сказка понравилась Апафи, — иронизировал вполголоса Бельди, — сколько титул «ваше величество», которым молодой человек пощекотал его слух.
— Нет, не скажи, сказка была хороша и к месту, — возразил его сосед Инцеди.
— Вот-вот, — вмешался в их разговор придворный шут. — Мальчишка сказал то же самое, что и ученый. Ученого высмеяли, а невежду похвалили. Таков уж свет!
— Будьте свидетелями, господа! — поднял голос Апафи. — Я пообещал саблю тому из спорщиков, кто окажется прав. Ни один из вас не был прав, как доказал этот юноша. А поскольку его правда, пусть и сабля его будет. Бери, парень!
— Ваше величество, — скромно заметил студент, — как же посмею я повязать такую саблю на эти вот тряпки?
Апафи рассмеялся. В самом деле, на парня жалко было смотреть. Князь подозвал своего секретаря.
— Возьмите его с собой и оденьте как следует.
Словом, когда студент вернулся в зал, узнать его было нелегко: на нем был красивый серый доломан, зеленые шаровары, на ногах — сафьяновые сапоги, в руке — серая барашковая папаха с синим околышем. Комендант дворца собрал этот костюм из одеяний княжеской свиты разных времен. Новое платье было к лицу юноше.
— Ну, а теперь держи и саблю, — сказал ему княжеский паж Корниш.
— Все равно и теперь я не смогу носить вашу саблю, ваше величество.
— Это почему же? — спросил Апафи, заметно сердясь.
— Да потому, что сабля положена только дворянам. А я — простолюдин.
В зале поднялся невообразимый хохот, и сам князь смеялся до слез.
— Ей-богу, в жизни не доводилось мне иметь дело с таким хитрецом. Ты, наверное, армянин? Нет, ты уж лучше не отрицай, уж пусть я умру в уверенности, что ты армянин. Этот, господа, не растеряется! А где господин Налаци? Поди-ка, сударь, в канцелярию и, так уж и быть, выпиши ему дворянскую грамоту. Художник сейчас на половине княгинюшки, расписывает какой-то буфет. Позовите и его, я велю намалевать для парня дворянский герб.
Художника и в самом деле разыскали у княгини. Звали его Габор Габча. Это был долговязый малый с такой плутовской рожей, что из него наверняка получился бы мастер по подделке бумажных денег, будь в то время бумажные деньги уже в ходу.
— Звать изволили, ваша милость?
— Над чем работаешь?
— Цветы амаранта рисовал для ее высочества.
— Прервись на часок…
— Не смею, потому как великая княгиня…
— Княгиня, княгиня… Государственные дела прежде всего. Герб будешь сейчас рисовать.
— И что же мне изобразить на этом самом гербе?
— По зеленому полю фигуру усталого путника.
— Великий князь, усталость нарисовать невозможно.
— Невозможно? Гм! И в самом деле — невозможно. Просто человек получится. А усталый — нет. Ну, хорошо, тогда пусть выполняет эту задачу не герб, а фамилия… Как тебя зовут, юноша?
— Ласло Вереш.
— Ну так вот, отныне твое имя будет Ласло Вереш Фаради[29]. Ступай, Габча, и нарисуй ему такой герб: белая собака на зеленом поле.
Добрый час миновал — и вот наконец перед князем лежали готовенькая жалованная грамота и герб.
Князь подписал грамоту, а затем принялся пристально разглядывать герб.
— Твоя собака, Габча, ей-богу больше на козу смахивает. Так и хочется ее подоить. Право же, что за пса намалевал ты, дурень? Ну ничего, коза тоже тварь полезная. Отдайте все это пройдохе парню и выгоните его поскорей из дворца, не то он скоро и голову мою выпросит.
— Ну, он не такой дурак!.. — невольно вырвалось у Дёрдя Бельди.
— Что вы хотите этим сказать? — обернулся на реплику известный доносчик Янош Кендефи.
— А то, что утомленному путнику было бы не под силу носить на плечах такую тяжесть, — смело отвечал Бельди, а затем, наклонившись к Инцеди, добавил: — Она и для целой Трансильвании-то обременительна.
Совсем барином стал теперь Ласло Вереш. По какой бы улице Дюлафехервара он ни проходил, все девушки дивились его наряду да сабле, что на боку позвякивала. Да что от всего этого толку, коли в кармане нечему звенеть? От собачьего «приданого» у него не осталось ни одного динара. Значит, и не к чему корчить из себя барина, а лучше снова идти да просить у добрых людей подаяние. Только в таком наряде, как у него теперь, это во сто крат труднее будет, чем раньше. К тому же дворянин скорее с голоду умрет, чем по миру пойдет.
Ласло брел по улицам города и, останавливаясь то и дело, чтобы утереть пот со лба, раздумывал, не отправиться ли ему снова во дворец, а там броситься перед князем на колени: возьмите, мол, меня на какую-нибудь должность придворную. Ведь Апафи был так добр к нему…
Он и в самом деле отправился ко дворцу, но охрана у ворот не пропустила его.
— Чего тебе?
— К князю хочу.
— Ты что, с ума спятил? Выдумал тоже…
— Да я же был у него полчаса назад..
— Спасибо еще, что не вызываешь князя прямо сюда, к воротам, — посмеялся над ним один из охранников, с изрытым оспой лицом. — Мол, потолковать с ним захотелось. Ну-ну, полегче, сударь! Наш князь — это тебе не венский император, у которого дом что проходной двор. Понимать надо, о ком говоришь!
Какой-то молодой паренек, сидевший перед воротами на круглом камне, с любопытством повернулся к рябому стражнику.
— А вы что, бывали в Вене, дядя Ишток?
— Как же не бывать? Бывал, конечно.
— Говорят, дома там большие-пребольшие.
— Дома, верно, побольше, чем здесь, зато сады — поменьше. Словом, остальное все — маленькое.
— И люди тоже?
— И люди.
— Но уж воробьи-то, верно, такие же?
— И воробьи меньше.
— Ну, а пчелки, дяденька Ишток?
Старый солдат (а старые солдаты и двести лет назад врать умели) сердито прикрикнул на парнишку:
— Меньше, коли я говорю! А к тому же, пчел там на шнурке привязанными пасут. Садики-то маленькие, словно клетки для птиц. Так чтобы пчелы в соседний сад не залетали, их к улью тонкими ниточками привязывают.
— Скажи на милость! — удивился парнишка, думая, как же глупо устроен мир за пределами Дюлафехервара.
А Ласло Вереш все еще стоял перед дворцовыми воротами.