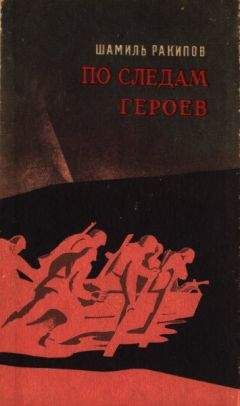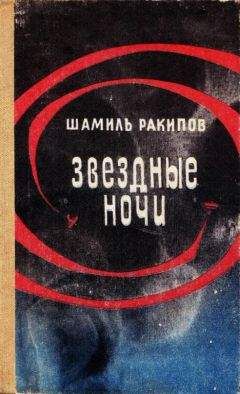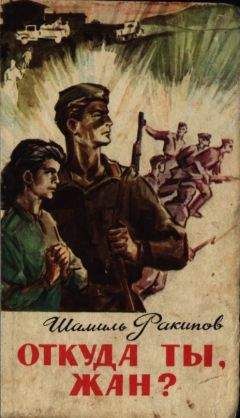— Вставай, сынок, пора уже, — мягко окликает мать. Увидев в глазах сына слёзы, она подходит к сундуку, на котором, свернувшись калачиком, он лежит, как котёнок, и гладит по плечу. Матери тоже, наверное, не хочется уезжать.
То ли со стоном, то ли со скрипом открылась дверь, и на пороге, натужно кашляя, появился отец. Нерешительно спросил:
— Чай готов, мать?
— Готов, готов, — как всегда в таких случаях, бодро ответила мать, но её голос предательски дрогнул.
— Пока деревня не проснулась, надо трогаться… Эх жизнь-жестянка: в доме гвоздя хорошего не найдёшь окна заколотить…
Молча, в тишине, попили чаю. Это была гнетущая тишина, от неё тоскливо сжималось сердце. Только одноухий медный самовар, прохудившийся носик которого был залеплен кусочком теста, вёл свою неизменную песню. Но и она сегодня казалась какой-то заунывной. Смотри-ка, даже резные бумажные занавески тихо колышутся, словно машут платками, прощаясь. И кот, видно, чует, что его оставят: ходит вдоль лавки, выгнувшись дугой, и мяукает дурным голосом, а хвост дрожит мелко-мелко.
Мать не вытерпела, прижав передник к глазам, ушла за печь и забилась в плаче.
Гиниятулла опустил голову. Во всех бедах своей семьи он винил себя, хотя ни в чём не был виноват. Жизнь такая проклятая. Посидев молча в тяжких раздумьях, он вздохнул, тихо обратился к Зинатулле, глаза которого были полны слёз:
— Пойдём, сынок… Ты — мужчина… Помоги заколотить окна.
Отец уже давно приготовил доски. Только считал неудобным заранее выносить их на улицу. Не хотел, чтобы все знали, что они собираются покинуть деревню. Он никогда не лезет с горем к людям, в себе носит.
Зинатулла берёт лежащие возле плетня доски и волочит за ворота. Высушенные солнцем подорожники колют ему ноги. Но Зинатулла даже рад этому. Пускай: небось в чужих краях не побегаешь вволю, там ещё не раз с тоской вспомнишь эти колючие подорожники. Если уж на родной земле жил впроголодь, где найти счастья на чужбине пришельцам? Так говорит мать. Зинатулла тоже так думает.
— Держи, сынок, доску, держи как следует. Не спи на ходу, — прервал его размышления отец. Он крест-накрест заколачивал окна, а Зинатулла придерживал доски, чтобы не сползали, пока отец вгонял в них гвозди. Эти гвозди — с большой шляпкой и острым, как шило, кончиком сделал ему деревенский кузнец. С одним гвоздём отец прямо измучился. Гвоздь всё время гнулся и никак не хотел лезть в доску. А вот круглый, ровный по всей длине гвоздь, который Зинатулла нашёл возле ворот Каюм бая, полез сразу — прямёхонько, без всякой канители.
— Гвоздь гвоздю — рознь. Этот на заводе сделали, — сказал отец, в последний раз стукнув по его шляпке молотком. — Если чего коснулись руки рабочих, то это радует сердце. Подрастёшь, не чурайся рабочих, сынок. Крепко они друг за друга стоят. Не иначе добрый знак это — гвоздь, который ты нашёл. Даст бог, удачливой будет дорога.
На маленькую тележку уложили две подушки, самовар, сундук, узел со всякой утварью, и семья тронулась в далёкий путь. До пристани Тетюши шли пешком, там сели на пароход, из трубы которого валил густой чёрный дым, низко стелющийся над Волгой. Денег на билеты не было. За место на пароходе для себя и для семьи Гиниятулла нанялся кочегарить — по двенадцати часов в сутки.
Зинатулла знает, что такое полуденный зной засушливым летом, знает, как бывает жарко в натопленной матерью бане, однако такой жары, как в машинном отделении, где в топку парохода бросают уголь, он не видал. От неё спирает дыхание, жжёт в лёгких. Зинатулла видел, как работает отец. В одних холщовых подштанниках, по лицу и спине ручьями бежит пот. На минутку остановившись, отец делает несколько глотков воды и снова швыряет в бушующую пламенем топку уголь. Вечерами, когда его время кончается, он без сил валится на лежанку, заставленную со всех сторон бочками, корзинами, ларями. Через несколько дней его было не узнать: глаза ввалились, скулы выдались и кашлять стал пуще прежнего.
В один из дней на пароходе произошёл невиданный доселе случай. Зинатулла на нижней палубе поджидал отца, который скоро должен освободиться от вахты. День выдался жаркий, солнечный. По воде медленно плыли щепки, арбузные корки, ошмётки воблы. Пароход стоял на какой-то пристани. Вдруг Зинатулла увидел на сходнях барина. В соломенной шляпе, с лёгкой бамбуковой тростью, на большом животе золотая цепочка от часов. Едва он вошёл на пароход, как его окружили грузчики, матросы. И как началось, как началось! Сперва Зинатулла не понимал, почему так шумят матросы и грузчики, почему они наседают на этого барина. Потом разобрался. Оказывается, барин в шляпе — хозяин парохода, а матросы и грузчики требовали у него прибавить плату за свою работу. Они шумели, кричали, хозяин стоял на своём: «Положенное получили, больше не дам ни копейки!»
— Что же выходит: от твоего положенного ноги протягивать?!
— Заработанного на хлеб не хватает!
Народ шумел, возмущался. В это время снизу, словно призрак из подземелья, появился, покачиваясь, худющий, обросший чёрной щетинной Гиниятулла. И точно в огонь плеснули керосина.
— Вон смотри, до чего людей доводишь!
— Ни стыда у тебя, ни совести!
Хозяин повернулся, чтобы сойти с парохода, но его не пустили. Тогда он затрясся от злости, начал что-то кричать, брызгая слюной, грозить тростью. Только его не испугались. Долго стоял шум на пароходе. И народ-таки добился своего, заставил хозяина прибавить жалованье.
— Вот видишь, сынок, как рабочий люд заодно стоит, — говорил отец, когда они укладывались спать. — А раз они заодно, то и не боятся ничего. Не то что наш деревенский мужик, который только и знает, что свою землю. Пускай бай с соседа хоть шкуру снимает, он не почешется протянуть руку помощи. А эти — другие… Эти — друг за друга горой…
Они плыли ещё несколько дней, а когда показалась Астрахань, отец сказал, что его товарищи кочегары посоветовали ему поискать счастья в этом городе.
Терять было нечего, и они остановились тут в окраинной слободке. Бедность, как осенняя туча, бросилась в глаза сразу. Полуразвалившиеся дома-лачуги. В окна, двери свищет ветер. Когда-то здесь жили рыбаки. А теперь мужчин почти не видно — одни калеки да старики. Всех забрала германская. В слободке с глазу на глаз с нуждой, с гнётом забот на плечах остались семейные женщины…
Гиниятулла нанялся работать возчиком. Оказалось, что и здесь скудно дают деньгу. Заработанного не хватало, чтобы хоть кое-как сводить концы с концами. Пошла работать мать. В солдатский госпиталь. И всё равно дела в доме не стали лучше — жизнь дорожала с каждым днём, цены поднимались, будто на дрожжах.
Время шло уныло и, казалось, беспросветно, как вдруг вся слободка всколыхнулась:
— Царя спихнули!
— Свобода!
— Долой войну!
— Да здравствует революция!
Вслед за взрослыми Зинатулла тоже кричал такие слова. Улицы наполнились людьми. В слободке вовсю ругали богатеев и буржуев, призывали громить лавки торговцев, прятавших хлеб. В одной из каменных лавок сбили замок, начали выбрасывать продукты на улицу. Всё расхватали, растащили моментально. Не оплошал и Зинатулла: он поживился чаем, самым лучшим — в железной коробке. Принёс его за пазухой и протянул матери. Однако отцу, который всю жизнь честно трудился, это не понравилось. Он крепко отругал Зинатуллу и отдал его в керосиновую лавку в ученики. Дескать, будешь знать, каково добывать на жизнь, а будешь ценить добытое, не станешь тянуться к дармовщине…
Хотя Гиниятулла и недолюбливал всяких фабрикантов, заводчиков, попов, мулл, нередко в открытую ругал их, о торговцах он не говорил ничего худого. Торговцы, по его мнению, были людьми, живущими, как и он сам, честным трудом. И если они разбогатели, то только благодаря своему усердию, старательности. Откуда ему, человеку широкой души, бесхитростному, было знать о тех утончённых способах надувательства покупателей, к которым прибегали торговцы, купцы, их умении за счёт простых людей делать из рубля два и три?
Зинатулла не прижился в керосиновой лавке. Там существовали такие порядки, что даже он, покладистый, тихий, готовый делать всё, что велят, вскоре стал ходить на работу с отвращением. Он терпел, терпел, а когда стало совсем невмоготу, выложил наболевшее отцу.
— Не выйдет из меня торговца, — сказал он. — Подамся я лучше к рабочим, отец. Ты ведь и сам об этом говорил.
И Зинатулла поступил в рабочую столовую. Посудомойкой. Он не смущался, что на нём женский передник, не стеснялся целыми днями, с утра до вечера мыть, скрести, вытирать посуду. Это мелочи по сравнению с тем, что у него теперь спокойна и чиста совесть. Больше того, он вырос в собственных глазах, почувствовал, что его работа нужна, потому что многие говорили ему спасибо. Оказывается, если ты не ленив, хорошо делаешь своё дело, приветлив с другими, тебя уважают и ценят. Узнав, что парень хочет учиться, начальство пошло навстречу — ставило его в удобную смену.