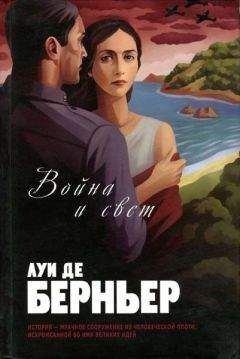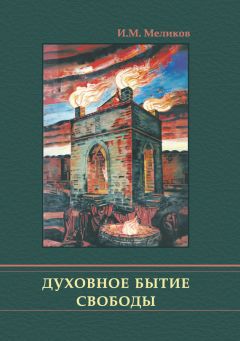— Такая маленькая, с красной грудкой! — закричал Нико в восторге, слегка обиженный, однако, что свистулька Абдула представляет птицу покрупнее.
Мальчишки изо всех сил задули в игрушки, а Искандер рассмеялся:
— Тише, тише! У вас вода выплескивается!
Вскоре научившись мастерски подражать пению каратавука и мехметчика, ребята перекликались трелями, разносившимися по долинам и в скалах. Иногда, гоняя со свистульками в зарослях гибискуса и дикого граната, мальчики так увлекались игрой, что им казалось, они сейчас взлетят, если изо всех сил помашут руками.
— Человек — это бескрылая птица, — говорил Искандер. — А птица — беспечальный человек.
Абдул выпрашивал у матери черную рубашку и черную жилетку с вышивкой золотой нитью. Он получил их к концу года. В маленьких общинах клички прилепливаются сами собой, и скоро даже мать называла мальчика Каратавуком.
Нико, вскоре ставший Мехметчиком, тоже задергал мать просьбами, целовал ей руку и прижимал к щеке, пока не получил красную рубашку с красным жилетом. Мать возводила глаза к небесам, приговаривая: «Дети — материно мученье», но купила у разносчика материю и сшила наряд, успев до начала прополки.
Искандер сбился со счета, сколько раз мальчишки прибегали к нему в слезах, потому что потеряли глиняных птичек в драке, или обронили, или куда-то засунули и не могут найти. Он уже делал свистульки целыми партиями, чтобы продать на базаре в Телмессосе родителям, балующим своих чад, и накопить деньги на прекрасное ружье. Каждый раз, преподнося мальчикам новую свистульку, Искандер спрашивал: «Кто второй после Аллаха?» — и не отдавал игрушку, пока не услышит правильный и приятный ответ: «Гончар! Гончар! Гончар!»
11. Ибрагим дарит Филотее щегла
Однажды в саду у старой церкви, где сборщик пиявок Мохаммед часами стоял в воде, терпеливо дожидаясь, пока твари присосутся к ногам, шестилетний Ибрагим нашел мертвого щегла. Мальчик развлекался, пытаясь ловить ящериц — занятие совершенно безнадежное, но забавное, которому самозабвенно отдается любой ребенок. Ловить черепах не так сложно и потому быстро надоедает, если нет желания посмотреть, скоро ли черепаха вновь высунет голову, после того как в нее потыкали палкой.
Ибрагим заметил птичку, потому что увидел ярко-красную головку и сверкающие желтые отметины на крыльях. Щегол застрял меж двух камней, будто упал с неба, внезапно пораженный смертью. Мальчик взял в руки уже окоченевшее тельце, и оно показалось самым красивым из всего, что он видел на свете. Пораженный невесомостью и хрупкостью птицы, Ибрагим вертел ее в ладонях.
Неподалеку Каратавук с Мехметчиком раскачивались на ветке, а Дросула и Филотея сидели у церквушки на поваленной колонне и глазели на Мохаммеда, который, ухмыляясь, разговаривал сам с собой. Девчонки болтали и бросали в воду сухие стебли, интересуясь, как они поплывут.
Ибрагим подошел к девочкам и вытянул руку:
— Во чего у меня есть.
— Мертвая птица, — пренебрежительно сказала Дросула. — Убери эту гадость!
— Ой, какая красивая! — воскликнула Филотея, прижав руки к щекам.
— Это кушу, — сказал Ибрагим, гордый своими познаниями. — Нравится?
— Красивая! — снова ахнула Филотея.
— И чего собираешься с ней делать? — все так же презрительно спросила Дросула.
Не обращая на нее внимания, Ибрагим протянул птицу Филотее:
— Хочешь?
Девочка покраснела от удовольствия:
— О да! Спасибо. — Она протянула ладони, и Ибрагим бережно положил в них птицу.
Филотея поднесла ее к лицу, чтобы рассмотреть, но вдруг бросила на землю.
— Фу! Она воняет! Какая мерзость!
— Конечно, воняет, — рассудительно сказал Ибрагим. — Она же мертвая.
Филотея с ужасом смотрела на птицу, а Ибрагим, чувствуя, как от огорчения сводит живот, спросил:
— Значит, не хочешь?
Филотея уже тогда щадила его чувства, поэтому ответила дипломатично:
— Конечно, хочу, только пусть сначала перестанет вонять.
— Вы дураки, — отметила Дросула, напуская на себя взрослый вид. — От нее никакого толку. — Ей ужасно хотелось, чтобы кто-нибудь преподнес ей такой подарок, но она понимала — этого никогда не произойдет.
— Она красивая, — упрекнула ее Филотея.
— Может, отрезать только крылья? — предложил Ибрагим. — Они очень хорошие, и вонять не будут. Отрезанные крылья не воняют. У меня есть сорочьи, большие такие, и ни капельки не воняют.
— Я возьму крылья. — Предложение Филотее совсем не нравилось, но она уже попалась в сети ухаживания, которое продлится до дня ее смерти.
Вот так Филотея стала владелицей пары черных крылышек с белозолотыми крапинами по краю. Со временем ей полюбился этот чудной и бесполезный подарок, у нее теплело на сердце, и в душе разливалась радость, когда она натыкалась на него, перебирая свою маленькую коллекцию сокровищ.
С тех пор Филотея ассоциировалась у Ибрагима с птицей, и он мысленно называл ее «пташка». Когда они обручились, он без слащавости и стеснения обращался к ней так и при друзьях. Он называл ее этим ласковым именем в те немногие пылкие и запретные мгновения, когда, рискуя репутацией, они оказывались наедине.
12. Доказательство невиновности (1)
Поликсена провела тревожную ночь — вовсю заливались дрозды, да еще стояла полная луна. Моргая воспаленными глазами, женщина беспокойно ворочалась на тюфяке. За час до рассвета ей привиделась мать, но Поликсена не поняла, сон это или призрак, чем и поделилась с подругой:
— Так странно, Айсе, вот она стоит, виду нее такой знакомый: эдак чуточку сгорбилась, седые пряди выбились из-под платка, смотрит по-всегдашнему грустно, а мне спокойно-спокойно. Я спрашиваю: «Мама, это ты?» Она присаживается на край дивана и отвечает: «Кто же еще?» Я говорю: «Мама, столько времени прошло, как ты?», а она: «Земля давит на грудь. Дай мне свету, чтоб я вздохнула». Я лежу, думаю, потом говорю: «Три года всего прошло, ты ведь знаешь, чего народ болтает». А матушка мне: «Я невиновна, и все это поймут, если сделаешь, как я прошу. Моим костям нужно вино». Я ей: «Но, мама…», а она вздыхает: «Даже мое дитя мне не верит». «Нет! Нет! Нет!» — кричу я, а мать говорит: «Подумай, ведь ты сможешь снять траур». «Я буду горевать вечно, — отвечаю, — твоя смерть жжет меня каждодневно. Посмотри, я вся в ожогах». И протягиваю к ней руки. Она снова вздыхает: «Если выполнишь мою просьбу, ожоги залечатся водой». Наконец я говорю: «Я сделаю, как ты просишь». Мать встает: «Когда сделаешь, пошли мне весточку, я хочу знать». «Хорошо, мама, пошлю». А сама думаю: «Поликсена, ты должна все помнить, когда проснешься». Я снова засыпаю, и утром меня будит азан[17], а я все помню и вот рассказываю тебе.
Айсе погладила Поликсену по щеке и притулилась к подруге.
— Не мне об этом судить, — наконец сказала она. — У нас по-другому. Наши покойники не любят, чтобы к ним приставали. Мое дело, конечно, маленькое, но, если хочешь знать мое мнение, надо сделать, как мать просит.
— Я сделаю после Дня поминовения — он на следующей неделе, есть время приготовить еду и поговорить с отцом Христофором.
Айсе задумчиво поджала губы:
— Думаешь, стоит так торопиться? Мое дело, конечно, маленькое, но ты же знаешь, чего все говорят? Стоило кому-то пустить слушок о твоей матушке, да упокоится она в раю, как все давай болтать, мол, это она своей отравой уморила кучу людей, хотя они померли совсем от другого. У нас город паршивых сплетников. Я-то помалкиваю, ты знаешь, а многие распустили языки.
— Мать не умела готовить отраву, — возразила Поликсена. — И зачем бы ей травить семью Рустэм-бея? Они умерли от проклятой чумы, что каждый год приходит из Мекки! Мать хочет, чтобы я доказала ее невиновность, и я это сделаю.
— Желаю тебе удачи, — сказала Айсе с ноткой скептицизма. — Но, по-моему, все же стоит выждать пять лет. И как ты пошлешь матушке весть? Явишься ей во сне?
— Не знаю, видят ли покойники сны, — озадаченно нахмурилась Поликсена. — А если видят, как в них попасть?
— Может, она приснится тебе, и ты этим воспользуешься.
— Когда это еще будет.
— Я знаю, что нужно сделать! — вдруг воскликнула Айсе и побарабанила себя пальцем по носу, восхищаясь собственной гениальностью.
Покинув дом подруги через черный ход, Поликсена надела чувяки, сощурилась на палящее солнце, что отбрасывало кинжальные тени на светлые стены домов, и проулками направилась к площади. Она прошла мимо навеса, под которым Искандер вертел гончарный круг, миновала уличных торговцев, кричавших: «Мегла! Мегла!» (английский товар), хотя все знали, что это вранье, и медников, грохотавших днем, а на ночь передававших эстафету соловьям и безутешным собакам. Наконец Поликсена добралась до площади, где отыскала Стамоса-птицелова, торговавшего в тени айвы. Стамосом его назвали в честь деда, родившегося на Хиосе, птицеловом же величали, потому что он пригонял на рынок древнюю тележку, принадлежавшую тестю, а до того бог знает кому еще, и продавал живых птиц. В ивовых клетках сидели хмурые куропатки, смешные петушки и взъерошенные утки; венчали пирамиду симпатичные зяблики и малиновки, которых люди покупали, чтобы те украшали вход, наполняя дом пением на рассвете и закате, а гостей встречали любопытные яркие глазки и дружеский удар клювом в палец.