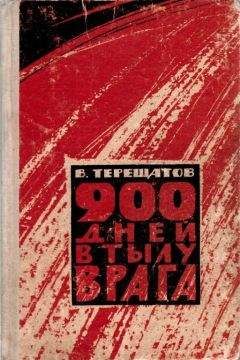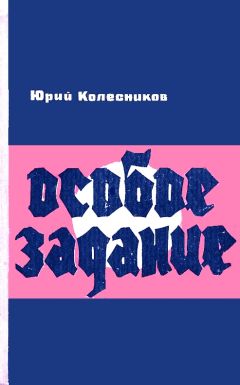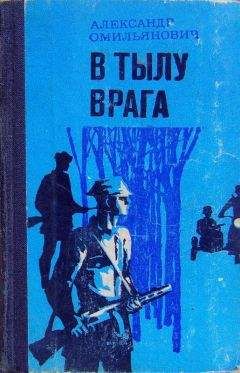Так я бродил по лесам и болотам — обросший, грязный, мокрый и голодный, И который уж день — счет потерял… Спал в стогах, зарывшись в сено, или, вспугнув зайца, устраивался на его лежке, зная из практики, что заяц выбирает себе место там, где человек бывает очень редко. Далеко обходил деревни, занятые гитлеровцами. Но однажды не было сил кружить, и я прошел при свете первых лучей солнца деревенской улицей. Со стен и заборов, с каждого фашистского плаката на меня глядели отвратительные рожи гитлеровцев, Я шел и думал: не окликнул бы кто, не остановили бы!
Хотелось взглянуть на людей, подавленных нашествием врага, с ними мне предстояло работать, Но улица в этот час была пустынной. Как я узнал потом, это была деревня Рудия, в которой гитлеровцы бывали каждый день.
Сколько раз в эти дни я возвращался к одной и той же тревожной думе: найду ли своих людей до наступления зимы? И надолго ли хватит моих сил и нервов на эти ночные блуждания и одиночество? Я вспомнил, как добивался отправки меня в тыл врага. О своем плане добиваться вылета за линию фронта я ни с кем в институте не разговаривал, чтобы не выслушивать возражений против окончательно принятого мной решения, Обычно мне не легко отказаться от того, что я задумал и решил, даже в том случае, когда пересмотреть решение было бы целесообразно. А когда сделаешь что-нибудь, то видишь — сделать можно было лучше и быстрей.
А нервы были напряжены до предела. В какую-то ночь своих скитаний, перед рассветом, я выбрался из одной деревни, так и не решившись постучать в какую-нибудь хату и попросить пищи. Подойдя к опушке леса, я услышал за собой равномерный топот лошадей, Так ходят иноходцы под опытными всадниками. «Кавалеристы!» — было первой мыслью Но откуда они могли взяться в такой глуши в такую пору? Я отошел в сторонку от дороги и залег в ложбинке. В нескольких метрах от меня проплыли две тени. Это была пара лосей. Я тихонько шикнул. Животные ринулись в чащу и исчезли.
Светало, А я не знал, где нахожусь. Решив не доводить себя до изнурения, я уже начал было присматривать местечко, где можно было бы часок-другой отдохнуть, когда со стороны Лепеля до меня донесся грохот взрыва, от которого дрогнула почва, За ним последовали более слабые взрывы, в одиночку и нестройными очередями, наподобие боевой стрельбы зенитных орудий. Что могли означать эти взрывы здесь, в глухом тылу? По-видимому, горел артиллерийский склад. Может быть, он подожжен советским человеком? От этой догадки стало легче на душе. Я выбрал место, в котором в куче лежало несколько сваленных буреломом елей, и, укрывшись под их ветвистыми вершинами, уснул.
Проснулся часа через три, — взрывы, хотя и более редкие, еще продолжались Думая о своих людях, — ведь склад могли подорвать и они, — пошел дальше. День был пасмурный, дул сильный ветер. Я шел редким кустарником, погруженный в свои мысли, почти не глядя вперед. Внезапно, словно кто-то толкнул меня в грудь, остановился. Впереди, сквозь кусты, на дороге виднелось какое-то колесо. Это могла быть разбитая машина, которых там много стояло по обочинам дорог. Я присел и стал рассматривать машину сквозь ветви куста. Передо мной стоял немецкий военный мотоцикл с прицепом. На нем был пулемет. Один солдат возился, отвинчивая баллон, другой стоял у сосны рядом с мотоциклом. Все вскипело во мне: впервые я увидел врага так близко, в каких-нибудь двух десятках шагов от себя. Я вынул маузер и взял на мушку стоявшего у сосны. Стрелять или воздержаться? Минута колебания — и я опустил оружие: партия послала меня не для таких пустяков. Я должен найти своих людей и повести их на большие дела.
Прямо за дорогой начинался густой лес. Я поднялся, взял несколько вправо, стремительно перебежал дорогу и углубился в чащу леса.
Не найдя парашютистов своего отряда в районе Домжарицкого озера, я возвращался в места своих первых скитаний.
Стемнело, когда я пришел в Кажары и постучался к Зайцеву. Он встретил меня как старого знакомого, усадил за стол, жене сказал, чтобы поторопилась с самоваром и ужином. Сразу же, как только я спросил, что нового, предупредил: в Лукомле обосновались каратели. Я попросил его отправить меня к Соломонову, чтобы еще раз проверить район своего приземления. Если моих людей нет на озере, то, следовательно, они остались где-нибудь в лесу, около Корниловки.
Когда я высказал такое предположение, Зайцев помолчал, а потом заговорил, глядя мимо меня, как бы в раздумье:
— Положим, я вас повезу в Корниловку, только ведь в Лукомле теперь мост охраняется и объехать его негде. Опасно для вас будет, очень рискованно… Ну, глядите сами, вам виднее. Будете настаивать — я повезу, конечно.
Он внезапно глянул мне в самые глаза, и я понял, что у него на мгновение явилось сомнение по отношению ко мне и он напряженно думал, стараясь проверить меня по моему поведению. Как командир парашютного отряда я не мог пренебрегать опасностью. Мне следовало отказаться от ненужного риска, и я отказался. За ужином Зайцев рассказывал об известных ему людях, которые могли помочь мне в поисках людей моего отряда.
Из всех названных Зайцевым лиц я выбрал Филиппа Садовского, члена партии, бывшего председателя Сорочинского сельсовета. К нему я и решил ехать немедленно.
Был тихий, теплый, пасмурный вечер, когда мы вышли из дома. Подвода угадывалась в темноте лишь по скрипу колес и беспокойному пофыркиванию лошади.
— Ты поезжай вперед, — тихо сказал Зайцев Кондрату Алексеичу, — а мы следом за тобой — немного пройдемся.
Зайцеву явно не хотелось расставаться со мной, не высказавши всего, что лежало у него на душе Может быть, он стыдился своих подозрений и боялся, что обидел меня, а может быть, хотел сообщить еще что-нибудь нужное, но не решался сразу сказать.
— Что ж, пойдем, — охотно согласился я, и мы пошли через высохшее болото, глухим, заросшим травой проселком, следом за тарахтевшей телегой.
— Вот, товарищ дорогой, — взволнованно начал Зайцев, и я услышал, как он вздохнул в темноте, — идем мы по нашей земле, а гитлеровцы считают, что теперь это их земля. Эту тропку дед мой протаптывал, и отец по ней ходил. А вон те две березки, — он указал на высокие тонкие стволы, белевшие в темноте, — на моих глазах выросли. Лет десять назад они ниже моего роста были, я тут еще веники ломал. А теперь все наше объявлено вне закона. Ну и вот, чтобы я, русский советский человек, дал подписку работать на оккупантов? Да ведь это легче голову в бою сложить, чем жить по фашистскому закону. Собирайте вы скорее ваш отряд, устраивайтесь в лесу, а мы вас в колхозе всем обеспечим. А в случае чего и сами к вам подадимся… У меня вот зерно лежит — сжечь хотел…
— Жечь не нужно, — сказал я, — припрячьте, пригодится.
— И то — спрячу. И скот найдется, все найдется, все будет, только начинайте, начинайте скорей. Душа не терпит!
И из того, как Зайцев говорил со мной, я понял, что у него по отношению ко мне не осталось никаких сомнений, как не было их больше и у меня. Помог этому простой советский гражданин — дедушка Кондрат, теперь наш общий друг, а при необходимости верный соратник.
Он взял мою руку: «Буду ждать вас, прощайте!», крепко пожал ее и скрылся в темноте, прежде чем я успел что-либо ответить на его горячие, взволнованные слова.
У меня стало тепло на душе. Я бегом догнал подводу, вспрыгнул в телегу, нащупал руку дедушки Кондрата и крепко пожал ее.
— Как, Алексеевич, о моих здесь ничего не слыхали?
— В гестапо тут всех полициантов созывали и там болтали, что парашютистов ваших переловили вместе с вами и отправили в какой-то лагерь. Но только кто же им поверит, если всем известно, что вы пока живы и здоровы.
— Откуда же в гестапо знают обо мне?
— Знают, дружок, да еще как знают. Поймали, говорят, вместе с ихним носатым, лысым стариком — командиром, который тут ходил по деревням, разыскивал своих парашютистов. Один гестаповец даже показывал такой, как ваш, ящик, в котором носите вы свой револьвер.
— Вот мерзавцы! — произнес я невольно.
— Знамо мерзавцы, а то кто же. Они по деревням разослали вроде каких-то нищих или отпущенных арестантов, и задание им одно — отыскивать парашютистов и в первую голову вас. Так что вы будьте осторожны.
Мы ехали больше часа, а дед мой говорил и говорил, посвящая меня во все подробности тактики оккупантов.
— Алексеевич, скоро рассвет, надо поторопиться, — сказал я, посмотрев на часы. Мой спутник хлестнул лошадь, и мы покатили по мягкой дороге, слегка подпрыгивая на кочках.
К рассвету мы добрались до Сорочина. Было еще темно, когда подвода остановилась у дома Садовского. Окна были занавешены, в доме горел свет, но мне долго не отпирали дверь. Когда я вошел, за столом, в красном углу, сидела миловидная женщина лет тридцати, руки праздно лежали перед ней на скатерти, и у нее был такой вид, словно она в этот ранний предрассветный час пришла в гости.