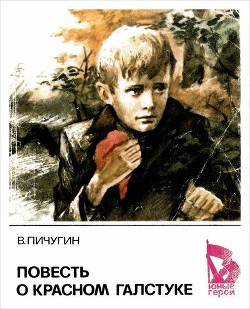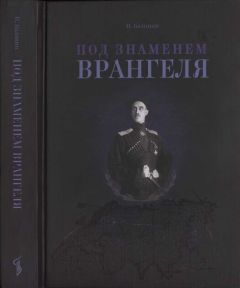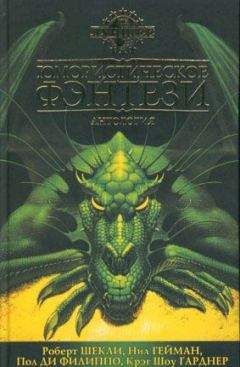— Пусти, — просил Прохоров, пытаясь вырваться.
Бондаренко крепко выругался и сильнее стиснул Прохорова. Тот смирился и замолчал.
Частая стрельба, бешеный лай собак, надрывный рев мотоциклов — все это удалялось в сторону леса.
Бондаренко, тяжело дыша, медленно продвигался по вязкой земле.
— Отдохните, — шептал Прохоров, — хоть самую малость.
— Нет! — Бондаренко пытался ускорить шаг, но сил уже не было. Прошел еще несколько метров и остановился совсем. От слабости кружилась голова… Прохоров соскользнул на землю.
— Я постою пока, отдохните.
— Как нога?
— Распухла… Да это чепуха. Главное — вырвались.
— Верно, вырвались… Ну-ка, держись, Никола, я партбилет достану.
Бондаренко достал из ботинка партбилет. Переложил в карман.
— Промок-таки. Ну и дождичек! Всю жизнь помнить буду… Давай, Никола, полезай на свое место. Поехали.
Прохоров обхватил старшину за плечи, но вдруг что-то вспомнил, достал из кармана размокший сухарь и протянул его Юре.
— Держи. Тоже для тебя берег. Ешь и Федота своего вспоминай. — Сухарь был пресный, безвкусный, и, только разжевав его, Юра почувствовал знакомый хлебный вкус.
Дождь не прекращался. По-прежнему сверкали молнии, перекатывался гром. Казалось, ливню не будет конца.
Группа медленно удалялась от зловещего места. Ни выстрелов, ни лая, ни рева мотоциклов уже не было слышно. Шли полем. Ноги глубоко вязли, идти становилось все труднее и труднее. Часто останавливались, отдыхали.
Наконец выбрались на проселочную дорогу. Под ногами почувствовали твердый грунт. Идти стало намного легче. Но Бондаренко отказался от дороги:
— Нельзя! Она на бугор к лагерю, а вниз — к насыпи. Опять опасно. Полем пойдем. Надежнее. А как рассветет, увидим, куда дальше двигаться.
И они снова нырнули в мокрое ржаное поле, ощутили ногами вязкую жижу. Бондаренко нес Прохорова, Юра поддерживал сзади.
Юра крепился как мог. Но усталость брала свое. Ноги не слушались. Ужасно хотелось отдохнуть, посидеть, полежать. Он стал отставать.
Ни Бондаренко, ни Прохоров этого сразу не заметили. Первым хватился Прохоров.
— А где Юра?!
— Как где? — Бондаренко остановился, оглянулся назад.
Прохоров сполз на землю. Оба всматривались в темноту. Но вокруг шумел дождь. Несколько раз окликнули. Юра не отозвался. Решили возвращаться.
Юра вынырнул из темноты неожиданно.
— Ты чего? — встревоженно спросил Бондаренко.
— Устал, — признался Юра. — Ноги не идут. — И бессильно опустился на землю.
— Товарищ старшина! — горячо заговорил Прохоров. — Возьмите Юру и уходите. Я один доберусь. Смотрите, он совсем изнемог.
Бондаренко промолчал, поднял Юру на руки, прижал к себе. Дождевая вода ручьем катила с обоих. Что делать?! Прохорова бросать нельзя, и Юра вконец обессилел, да и сам едва на ногах держится. А идти надо. Не попадаться же снова фашистам.
— Сынок, — обратился он к Юре, — крепись, родной! Ты же знаешь, фашисты рядом. Доберемся до леса и отдохнем, сколько захочется. Ну? Помаленечку, потихонечку идем, дорогой.
Юра пригрелся на груди старшины и начал засыпать. Слова Бондаренко доходили до него откуда-то издалека. Но при слове «фашисты» очнулся, открыл глаза, представил новый плен…
— Идем…
Бондаренко крепко обнял и поцеловал Юру.
— А дождик-то перестает. Вы чуете, дядя Ваня?
…Прохоров шел в середине, опираясь на плечи старшины и Юры. Он скрипел зубами, стонал, но упрямо заставлял себя идти.
Шли не разговаривая. Каждый в душе мечтал просушиться, поесть, хорошенько выспаться в тепле. Об этой обычной жизни мечталось, как о величайшем человеческом счастье!
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Поле кончилось неожиданно. Под ногами был скользкий, но твердый грунт. Ливень сменился мелким, нудным дождем.
Вышли к небольшому домику. У плетеного забора наткнулись на кучу дров. Присели. Дрова сырые, холодные. Но какая радость — ощутить, что добрались наконец до жилья, до людей.
— Подождите, я сейчас, — сказал Бондаренко и исчез.
Отсутствовал он недолго. Возвратился с маленькой, худенькой старушкой.
У старушки оказался густой, уверенный бас. Чувствовалось, что она любит и умеет командовать… Вошли в хату.
— Дед, а дед? Вставай, слышь!
— Чего тебе? — отозвался дед откуда-то из-за печки.
— Шевелись живее. Одежу сыновей на двоих подай и на мальца теплое подбери. Отогреть, обсушить людей надо.
— Кого отогреть?
Бабка вскипела:
— А ну вылазь из своей берлоги! У людей зуб на зуб не попадает, а он еще кочевряжится, медведь ленивый!
Под дедом тяжело скрипнула кровать, он шумно вздохнул, засопел. И вскоре появился — большой, лохматый, очень похожий на медведя.
Увидев нежданных гостей, дед сипло прокашлял, буркнул приветствие и запустил пятерню в кудлатую голову. Бабка недовольно повела носом:
— Накурился уже, табачищем прет — сил нет! Открывай сундук, переодевай мужиков. Э, пока ты раскачаешься, совсем рассветет. Иди баню затопи — я сама все достану. Дрова-то отсырели, ты керосинчику плесни, да пожара не сделай. От тебя ведь всего ожидать можно. А вы садитесь, люди добрые.
Она подала всем широкие прочные табуреты.
Дед накинул пиджак и вышел, но тут же вернулся за спичками и бачком с керосином.
…В низенькой деревянной баньке, вросшей в землю, было еще прохладно. Дрова в печурке весело потрескивали. Сухую одежду, которую дала бабка, повесили на вбитые в стену гвозди.
Юра присел у огня погреться, вытянул к пламени руки. Взрослые закурили, разговорились. Дед, как бы между прочим, поинтересовался, что за люди, откуда появились в столь поздний час. Бондаренко рассказал. Медлительный дед сразу засуетился. Принес березовый веник:
— Вчера два десятка заготовил. Парьтесь на здоровье, полезно.
Затянулся дымом глубоко, с наслаждением.
— Так вы как, дальше пойдете аль побудете денька два?
— Дальше пойдем, — ответил Бондаренко. — До города далеко?
— До Слонима? Нет. Если по большаку, рукой подать. Но нельзя. По нему день и ночь фрицы от границы катят.
— А сюда заглядывали?
— Заглядывали. Раза два. Но все наскоком, торопились. — Дед потрогал воду в котле. — Полезайте наверх, погрейтесь.
Стали раздеваться. Мокрая одежда поддавалась с трудом. Дед заметил, как Прохоров мучается с ногой:
— Ранен?
— Нет, зашиб.
Дед снял с гвоздя керосиновую лампу, нагнулся к ноге.
— Эх, разнесло как!.. Ты ее с горчичкой попарь.
Он сходил домой, принес почти полную пачку.
— На, лечись. Опухоль как рукой снимет. В этом обрезе и парь. — Дед пододвинул к Прохорову обрезанную бочку и вышел.
В котле зашумела вода, стало жарко. Юра никогда не испытывал такого удовольствия в бане, как сейчас. Бондаренко и Прохоров поочередно, с наслаждением, стегали друг друга веником. Угостили и Юру. От жары стало трудно дышать. Юра сполз на две ступеньки ниже и чаще умывался холодной водой.
Прогревшись, Прохоров парил ногу горчицей.
Когда оделись, вошел дед, стал рассказывать:
— У меня тоже два сына воюют. Один срочную служил, тут, под Брестом, а другого на второй день войны вызвали в военкомат… Записку прислал, что их погрузили в эшелон, но куда повезут, не знает… Сам я на фронт идти не могу: стар и глаза не те. В гражданскую-то я лихо беляков рубал. Пришлось силенками потягаться и с генералами, адмиралами и всякими там атаманами.
Дед достал бутылку вина, огурцов с хлебом, кружки. Налил сначала Бондаренко, потом Прохорову, потом себе. Юра сидел в стороне, не спеша ел огурец с теплым пшеничным хлебом, слушал:
— Вам в город нельзя. От него круто на север берите, держитесь лесом. Обойдете город, опять на восток выворачивайте.
В дверь требовательно застучали. Все настороженно переглянулись.
— Кого черт несет? — выругался дед. — Кто там?
— Да я, кто же еще. Еду принесла. Открой, мокну ведь!