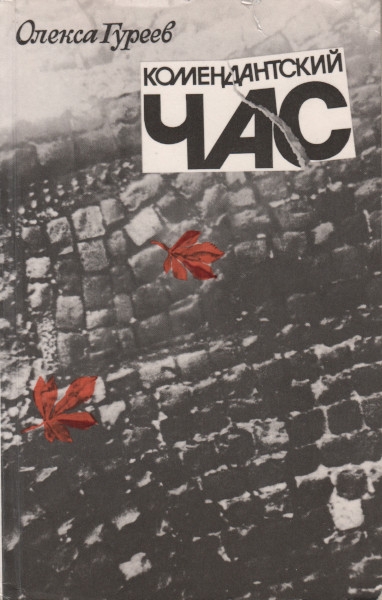спрятать их в тайник. Спрятала и снова поторопилась к черному ходу. Не спрашивая, кто стучит, открыла дверь.
За порогом стояли двое гестаповцев.
— Руки вверх!
Обыск продолжался недолго, они будто торопились куда-то, приказали Вале собираться. Надела старый ватник, забыв чем-нибудь прикрыть голову.
— Выходите!
У дома их ожидала темно-зеленая легковая машина.
«Вот и свершилось», — с горечью подумала Валя, забившись в угол заднего сиденья. Что же делать? Первый наплыв депрессии, вызванный внезапным арестом, уже прошел. Инстинкт самозащиты побуждал к действию. Незаметно протянула руку к дверце.
— Она закрыта, выскочить не удастся, — предупредил гестаповец.
Когда-то она говорила Третьяку: «Будем стараться, чтобы ни одного дня не потерять, пока они еще есть у нас в запасе». Вот ее запас и исчерпался!.. За окном промелькнул Сенной базар, замелькали деревья небольшого скверика.
Проехали дальше и свернули направо, на площадь Богдана Хмельницкого. Вон и то место, где погиб Володя Котигорошко. За ним еще несколько домов и — гестапо...
Подвал, камера № 54. Валю толкнули в спину, захлопнули за нею дверь. Звякнул запор. Какое-то время она недвижимо стояла у порога, словно растерявшись в необычной обстановке. Просторная комната с двумя зарешеченными оконцами под потолком, некрашеный деревянный пол, вдоль стен железные койки, а на них сидят и лежат женщины. «Может, поздороваться с ними?» подумала Валя, но не поздоровалась, потому что женщины почти не обратили на нее внимания. Только одна, в черном платье, щупленькая, с забинтованными руками, выждав, поднялась с места и подошла к «новенькой».
— Идем, — и подвела Валю к свободной койке в углу с ничем не покрытыми голыми досками. — Это — твоя.
На койку опустились вместе. Женщина поинтересовалась:
— Поймали на чем-то?
— Нет, — покачала головой Валя. — Кто-то донес. Я не знаю. Может, виновата, что была в комсомоле.
— А я и не комсомолка, и не член партии, а забрали, — проговорила женщина. — Пятеро было нас здесь до тебя. Двое, наверное, выпутаются, а трем угрожает смерть. В том числе и мне. Я сижу больше месяца. За это время двоих уже расстреляли, одну выпустили.
Она говорила так спокойно, словно речь шла не о смерти, а о чем-то обычном.
— Вас взяли из больницы? — немного освоившись, спросила Валя, указывая на забинтованные руки женщины. Потом перевела взгляд на соседние койки. — Их тоже?
Худое, измученное лицо женщины, покрытое синими и красными пятнами, отразило горестную усмешку.
— Это после пыток. По ночам допрашивают, бьют шомполами, топчут ногами, а утром фрау Пикус накладывает повязки. Они сначала пытаются выведать все, вырвать показания, а потом уже расстреливают. Делают ставку на подлость. Хотят, чтобы каждая из нас, перед тем как умереть, утопила и других. Родители знают о твоем аресте?
— Нет, они эвакуировались, — ответила Валя.
— Тебе легче. А мои здесь...
Разговаривая, Валя почувствовала, что ее кто-то рассматривает. Окинула взглядом камеру. Одна женщина спала, то и дело вскидываясь, две перешептывались, четвертая... В противоположном углу камеры, на такой же койке, сидела молодая женщина тоже в темном длинном платье, похожая на монашку. Она пристально смотрела на Валю. Даже когда они встретились взглядами, «монашка» не отвела от нее глаз. Так смотрят сумасшедшие или слепые — не мигая, упорно, в одну точку. Валя не выдержала, потупилась.
— Хуже всего — начало пыток, а потом тупеешь, сердце наливается ненавистью к палачам, — продолжала первая Валина знакомая. — Думаешь про себя: «Все равно я вам не покорюсь, душегубы!» Откуда только силы берутся.
— Вас тоже били? — машинально спросила Валя, чувствуя на себе тот взгляд из угла.
— Вот. — Женщина расстегнула платье, показала расные полосы на груди. — Раскаленным железом жгли. Но я выдержала, хотя они и бешенствовали. — Последнюю фразу она проговорила с гордостью победителя. — И ты выдержишь. Зато после таких мучений умирать будет легко. Все кончается...
— Об этом лучше не думать, — заметила Валя.
— Да, но приходится.
Этот взгляд, взгляд... Он действует почти физически.
— До последнего вздоха человеку трудно определить, сколько в нем достоинства, — продолжала женщина.
Валя вздрогнула. Краешком глаза она заметила, что к ним направляется «монашка». Дойдя до середины камеры, остановилась. Сделала еще два шага и остановилась перед Валей. Проговорила робко:
— Ты... ты узнаешь меня?
Валя с опаской посмотрела на нее исподлобья. Лицо бледное, молитвенно безрадостное, и вправду как у монашки, бородавочка на подбородке, губы плотно сжаты.
— Не узнаю.
«Монашка» продолжала:
— Ты на окопах не работала?
— Нет.
— Странно. А я вроде знаю тебя, будто где-то видела. На санях не ехала из Броваров?
— Когда?
— Месяца полтора тому назад.
— Ехала.
— С одним парнем?
— Да...
«Монашка» всплеснула руками.
— Бог мой! Так это же мы вас ругали там, обзывали спекулянтами. И я, глупая, ругала. А вишь, где встретились. В душегубке. Правду, значит, говорила девушка, что вы — подпольщики. Прости, сестра. Может, и не выйду отсюда, так хоть не унесу в могилу этот грех.
— Ничего, ничего, — сочувственно проговорила Валя, приглашая молодую женщину сесть рядом. — Будем живы, все образуется. Пришли бы поскорее наши.
Разговор продолжали втроем. Вспоминали годы перед войной, все радостное, что было, и трудности, которые сейчас не казались тяжелыми, рисовали в воображении жизнь, которая наступит после победы над врагом. Валя больше слушала, ободренная и успокоенная, ощущая, как возвращаются к ней силы. Теперь она была уверена, что ее не сломят никакие пытки, что она стойко перенесет все мучения, до последней минуты своей жизни в страшном застенке гестапо будет бороться за родное Отечество, за светлый день освобождения, за этих людей.
На первый допрос ее вызвали около полуночи. За столом сидел не старый розовощекий гестаповец с погонами штурмбаннфюрера. Сидел прямо; когда Валя входила, смотрел на нее через плечо. Она заметила, что у него широко открытые голубые глаза. Он сказал:
— Следователем в вашем деле буду я. — И с усмешечкой добавил: — Думаю, отводов не имеете?
— Мне все равно, — не поднимая головы, ответила Валя.
— Знаете, девушка, — продолжал майор-гестаповец, — я не