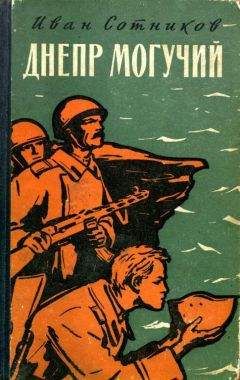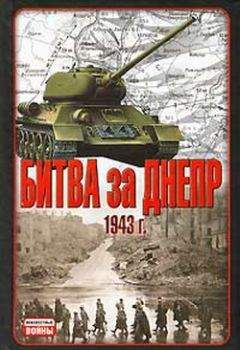«Да мы, да мы, товарищ майор, — мысленно сказал он замполиту, — мы их так погоним, так погоним, что в Днепре утопим».
Когда, опомнясь, повернулся он лицом к фронту, над позициями полыхали тысячи взрывов реактивных мин, а из нашей первой траншеи, словно чудом вырастая, стремительно выскакивало множество людей и кто пригибаясь, кто — в полный рост, бежали туда к сплошной стене синевато-коричневого огня и дыма. А в вышине все гуще и плотнее шелестели снаряды, улетая куда-то за разлив огня и дыма.
— Стрелки пошли, и нам пора, — с заметной дрожью в голосе проговорил Саша Васильков и, перекинув через плечо связку из шести коробок с пулеметными лентами, воскликнул:
— За мной! Вперед!..
Схватив вместе с Гаркушей левой рукой пулемет за хобот, а правой две коробки с лентами, Алеша побежал вслед за Васильковым, совсем не чувствуя ни тяжести катившегося пулемета, ни патронов в коробках, ни собственного тела. Впереди, неоглядно растянувшись вправо и влево, густой цепью бежали стрелки. Позади них по двое, по трое, по пять человек так же спешили к густевшему дыму пулеметчики, бронебойщики, минометчики, связисты. На мгновение Алеше показалось, что эта огромная лавина людей, как штормовой накат, ворвется в дым и неудержимо, не останавливаясь, покатится на юг, к украинским землям и дальше вперед, где как он знал по карте, распластался синий разлив Днепра. Но бежавшие первыми стрелки вдруг остановились почему-то почти у самого края призрачной пелены дыма и начали падать. Подбегавшие к ним другие стрелки также падали, словно встретив непреодолимое препятствие.
«Остановили!» — опалила сознание Алеши отчаянная мысль, но он тут же понял, что это была не атака, а всего лишь выход на рубеж атаки. Стрелки падали не под силой вражеского огня, а чтобы передохнуть, собраться с силами, выждать, когда наша артиллерия перенесет огонь в глубину, и уж тогда кинуться в атаку. Развернув пулемет и упав рядом с Гаркушей, Алеша привычно откинул крышку патронной коробки и вытащил конец ленты.
Снаряды и мины рвались совсем рядом впереди, где были вражеские траншеи. В сплошном грохоте потонули людские голоса. Не слышно было даже рева и лязга танков, вынырнувших из лощин позади наших позиций и приближавшихся к залегшим на рубеже атаки стрелкам.
— Силища, неудержимая силища! — только по движениям губ понял Алеша, что прокричал бледный от волнения Саша Васильков.
Гаркуша, привстав на колени и что-то крича, махал руками лежавшим впереди стрелкам. Те, ничего не слыша, но видимо хорошо понимая Гаркушу, ответно махали касками, автоматами, показывая вперед, где в дыму и огне скрывались вражеские позиции.
Внезапно грохот взрывов смолк. Набирая скорость, взревели позади танковые моторы, из края в край призывно пронеслось «В атаку! Вперед!», и тысячи лежавших людей вскочили, перемешались с обгонявшими их «тридцатьчетверками» и, паля из автоматов, винтовок, пулеметов, кинулись в еще не рассеявшийся дым. А еще дальше, где-то за первыми траншеями противника, тысячеголосо разрезая воздух, опять сплошным гулом били наши артиллерия и минометы.
Когда, вскочив и побежав вслед за стрелками, расчет Василькова приблизился к темному, изрытому воронками взрывов углублению, Алеша понял, что это была та самая первая траншея противника, на которую с трепетом и затаенным страхом смотрел он больше четырех месяцев. Он хотел было приостановиться, хоть бегло оглядеть это так знакомое издали место, но Саша Васильков, громыхая бившими по его спине и груди патронными коробками, повернул распаленное лицо с огромными сверкающими глазами и властно прокричал:
— Не задерживаться! Вперед! Не отставать от стрелков!
Перетаскивая пулемет через траншею, Алеша заметил только какие-то обрывки ядовито-зеленой одежды, расплющенную немецкую каску и бесформенное сплетение обожженного металла с торчавшим куском тонкого ствола.
Наступавшие впереди танки и стрелки продвигались так быстро, что пулеметчики напрягали все силы, чтобы не отстать. Позади них, облепив колеса и станины, с отчаянным упорством артиллеристы катили противотанковые пушки. Другие пушки выбрасывали вперед конные упряжки и тягачи. Прислуга развертывала их для боя, но, постояв несколько минут, вновь отставала от танков и стрелков и, вызвав упряжки и тягачи, неслась вперед.
Уже прошло не меньше получаса, как началась атака, уже остались позади четыре развороченных взрывами траншеи и неисчислимое множество пустых окопов, а противник огня еще не открывал. Только в разных местах грудились кучки грязных, оборванных и обезоруженных немецких солдат с землистыми, искаженными страхом лицами.
В низине вспыхнула было перестрелка, но туда из разных мест сразу же ринулось штук десять «тридцатьчетверок», и через несколько минут все стихло; Лавина людей и танков опять неудержимо покатилась на юг. В этом общем, все поглощающем движении Алеша ничего не видел, кроме бежавших впереди, справа, слева, товарищей, ничего не слышал, кроме гула моторов, топота ног и гомона людских голосов, ни о чем определенном не думал. Он находился в каком-то странном опьянении, стараясь лишь не отстать от Саши Василькова и не выпустить из руки горячего хобота пулемета. Не было ни страха, ни усталости, ни ощущения самого себя. Всем его существом властно завладело одно единственное стремление вперед и вперед, туда, где еще далеко-далеко расстилалась приднепровская равнина и мягко шелестели воды никогда не виденного им седого Днепра.
— Что так сияете, — спросил Яковлев шагавшего на новом протезе Лужко, — радость какая или от погоды?
— В госпитале был, — возбужденно заговорил Лужко, — однополчанина навестил. Полтора года в одном батальоне воевали. В пулеметной роте парторгом был. Да вы знаете, вероятно, Анну Козыреву, шофера из автобазы. Муж ее, Иван Сергеевич Козырев. Изумительный человек!
— Если он под стать жене, то вполне могу представить. И как он, здоров?
— Здоров-то, здоров, но в армию больше не попадет, — с грустью сказал Лужко, опуская глаза.
— А вы еще тоскуете о военной службе?
— Да нет, сейчас уже привыкать начал, — приглушенно вздохнул Лужко, — а первые месяцы, ох, и лихо было. Думал, что жизнь окончена и впереди пустота, растительное существование.
— Привычка, говорят, вторая натура. Я вот себя без завода и представить не могу. Кажется, вырви меня из заводского коллектива и задохнусь, как рыба без воды. Да, — взглянул на часы Яковлев, — совсем забыл. У меня же чайник кипит. Пойдемте, Петр Николаевич, чайку попьем, до смены еще целых полчаса.
Яковлев жил в крохотной комнатушке дома заводоуправления рядом с парткомом. Единственное, упиравшееся в грязную стену соседнего дома окно тускло освещало давно не беленые стены, железную солдатскую кровать, накрытую байковым одеялом, забитую книгами этажерку и обширный стол, заваленный рулонами чертежей, стопками брошюр и книг, кипами старых и свежих газет.
— По фронтовому живете, — осматривая комнату, улыбнулся Лужко.
— Какой тут фронт, просто порядок некогда навести. Правда, у меня есть жесткий закон: каждую неделю генеральную чистку проводить. Ну, денек, два еще ничего, а уж к концу недели столько всего накопится, что и подступиться страшно.
— Ирина Петровна, — воскликнул Лужко, увидев на столе фотографию женщины в красивой рамочке. — Точно, она, Ирина Петровна.
— А вы знаете ее? — побледнев, с дрожью в голосе спросил Яковлев.
— Да как же не знать, — не заметив перемены в Яковлеве, пристально рассматривал фотографию Лужко, — у нас в полку старший врач. Если бы не она, я бы не сидел здесь. Эго же такая женщина! Ее в полку так любят, так любят…
Взглянув на суровое, нахмуренное лицо Яковлева, Лужко смолк, смутно догадываясь, что с Ириной Петровной у Яковлева было связано что-то нерадостное и, очевидно, даже тяжелое.
— А вы… А вам она кто? — смутясь, проговорил Лужко и под строгим, почти злым и отчаянным взглядом Яковлева опустил глаза.
— Моя неудавшаяся любовь, — ледяным, страшно спокойным голосом сказал Яковлев. — Точнее: моя растоптанная любовь.
Ошеломленный столь резким и откровенным ответом и особенно безжалостным и безнадежным тоном голоса Яковлева, Лужко перекладывал из руки в руки фотографию и не знал, что сказать.
— Простите, Александр Иванович, — с трудом проговорил он наконец и прямо посмотрел на Яковлева, — я чувствую, вам тяжело, что с Ириной Петровной…
— Теперь уже не тяжело, и с Ириной Петровной все кончено, — неторопливо перебил Яковлев.
— Но я не понимаю: такой человек, как Ирина Петровна, и вдруг…
— Никаких «вдруг». Обычная история. В юности любила одного, а потом встретила лучшего и — все, что было, быльем поросло.
— Не верю! — с горячностью воскликнул Лужко. — Кто другой — может быть, но Ирина Петровна… Не верю! Я всего полгода знал ее. Немного, вроде, времени. Но такие полгода равны десятилетию. Это же на фронте, и не где-нибудь, а в стрелковом полку. Там каждый человек на виду. Ничего не скроешь. И солдаты к подобным вещам так внимательны и так безжалостны. Чуть что-либо, и такая женщина — ничто в глазах солдата. А Ирина Петровна, — склоняясь к Яковлеву, с жаром продолжал Лужко, — да вы представляете, что такое Ирина Петровна в глазах солдат нашего полка? Идеал душевности и чистоты!